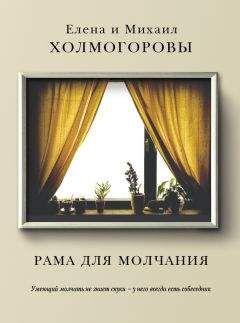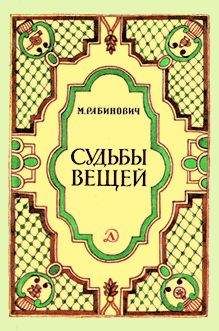Михаил Холмогоров - Второстепенная суть вещей
Сегодня уже диковато звучат слова «общественник» и «общественница», они исчезли вместе с «агитатором». У меня до сих пор аллергия на это советское слово. Довелось жить в доме по соседству с агрессивной старухой, которая всюду и везде совала нос, интересуясь моральным обликом жильцов всей семидесятиквартирной башни и гордо сообщавшей каждому, что она «жена и мать чекистов». Никакой ностальгии по такому прошлому я не испытываю, но иногда кажется, что в революционном, как всегда у нас, раже ринувшись в эволюцию, мы повыплескивали с затхлой застойной водой немало младенцев. И отринув само понятие «общественное», мы оставили человека на ветрах времени мерзнуть в одиночку.
Это верно, бороться нам надоело, но сознание перестраивается медленно, и мы продолжаем по инерции чувствовать себя втянутыми в революционный процесс, который в силу своей непреложной, неодолимой логики требует лишений, самоограничений во имя… А во имя чего? Не знаю. Но знаю, что именно поэтому на вопрос: «Как дела?» — мы стесняемся ответить: «Спасибо, хорошо». Потому что либо спрашивающий усомнится в искренности ответа, либо затаит (нет, не зависть, что было бы, увы, не противно природе человека), но недоумение. А иной и поинтересуется подозрительно: «А уж не новый ли ты русский?» Ламентации стали признаком хорошего тона. Похвалили ваш новый наряд. Ваша реакция? «Ой, что вы, ему уже сто лет!» Или: «Да это я на рынке за полкопейки купила». Почему, не знаю, хотя и сама грешна. Американская улыбка никак не войдет в наш быт. Нет, не таков русский человек! Разве что фотограф способен выдавить из нас ненатуральную улыбку. Или анекдот про нового русского. Ненатуральную, потому что мы не можем определиться в своем отношении, потому что тщательно скрываем даже от себя самих смесь чувства зависти и превосходства. И некоторая опаска: а вдруг они вовсе не таковы, как в анекдотах, где замещают пресловутого чукчу или легендарного Василия Ивановича. И вовсе не обязательно любого из них, собирающегося в Ватикан, инструктировать: «Запомни, не пахан, не батя Римский, а папа, па-па». А может быть, в нас крепко сидит еще то, что мы гордо называли равенством, а на деле это была элементарная уравниловка — обстоятельство, сопутствовавшее обезличиванию. Разговор, если не ошибаюсь, Черчилля с Хрущевым. Никита Сергеевич горячо отстаивает преимущества социализма перед капитализмом: «У вас неравномерно распределено богатство». Черчилль парирует: «Зато у вас равномерно распределена бедность». Парадигма «бедные, но гордые» в годы безнадежно бесперспективные как-то согревала и казалась признаком даже какого-то таланта и уж точно — интеллигентности. Надо сказать, сейчас бедность все меньше и меньше способствует гордости.
Но и этого мало. Выражение «приятные хлопоты» в русском понимании ничуть не меньший оксюморон, чем «горячий снег». Оно совершенно не наполнено реальным смыслом, содержанием. Судите сами. Вот, например, кто-то из знакомых купил дачу. Ваша реакция? Наиболее вероятна, по моим наблюдениям, следующая: «Бедный, это ж сколько теперь забот! А денег! Там же голые стены!»
Возьмем что-нибудь попроще. Кто-то из знакомых говорит, что у него в ближайшую субботу двадцать человек гостей. Ваша реакция? (Будьте сейчас искренни, признайте мою правоту.) «Кошмар! Такая куча народу! Куда ты всех посадишь? Чем ты эту ораву будешь кормить?» Можно, конечно, попытаться доискаться причин, да и не так уж это и трудно. Вот, скажем, в последнем примере: сослаться на традиции русского хлебосольства, не позволяющие обойтись одними сэндвичами, посетовать на то, что десятилетиями наш народ если не голодал, то во всяком случае недоедал… И все же… А рождение ребенка?
Картинная галерея в Стокгольме. Долго хожу по залам. Довольно много людей. Сегодня здесь, как практически в каждом музее, еженедельный день, когда вход — бесплатный. Но самое яркое впечатление — не полотна, а, да простится мне, посещение туалета. У одной из стен, около зеркала — какой-то предмет непонятного назначения: вроде бы стол, но почему-то с бортиками. Пеленальный столик. А как же иначе? А если придут с младенцем? И меня тут же просветили, попросив поверить на слово, что точно такой же есть и в мужском туалете, а то куда же деться пришедшему с дитем папе? Какие для этого нужны капитальные вложения? Теперь, когда памперсы прочно вошли в нашу жизнь, это стало не реальной, не экономической, а психологической проблемой. А спросите у западной дамы, что такое «старушечьи цвета» в одежде. Она удивится такой формулировке, но наверняка в первую очередь назовет белый, а затем — яркие. А мы?
Несколько десятилетий подряд на дом задавали учить наизусть строки из исключенного ныне из школьной программы произведения: «Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы…» Мы, дети застоя, запуганные образом ужасного капитализма, общества потребления, где (о, ужас!) все продается и покупается, конечно же, переиначили ее «и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы». «Хочу быть иностранцем», — детский ответ на вечный взрослый вопрос: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» — сегодня уже не отдает той горечью, что раньше. Но все же, все же, все же…
Мои ровесники не видели ни войны, ни репрессий, но тот патриотизм и тот страх сидит генетической памятью в наших клетках. Нынче генетика, похоже, дала сбой: наши дети только умозрительно понимают, например, что такое «отъезд навсегда». В рамках тоталитарной системы не могло быть такой качественной пропасти между поколениями. Какой, к черту, «отъезд навсегда», когда предметом обсуждения является выбор места, где провести отпуск: Турция, Греция, Канарские острова или вовсе Шри Ланка? Уехавшие на Запад соотечественники, собираясь в гости после долгого перерыва, спрашивают: что привезти в нищую Россию из Америки? Ведь не ответишь: «Денег» — неловко. Им никак не приходит в голову, что здесь у нас на смену дефициту всего пришел дефицит одного. Может быть, это тоже своего рода победа? Но звучит такое несколько кощунственно, потому что победа эта умозрительна, а кушать хочется каждый день.
Кстати, ревнители возврата к исконно русским патриархальным ценностям в противовес проклятой буржуазной морали как-то не заметили пропажи противника. Они все борются, брызгают гневными слюнями на погрязший во всех мыслимых грехах Запад, не видя (а может, не желая видеть), что их мечты как раз там-то уже воплощены в жизнь. Схлынули, отшумели на Западе сексуальные революции, молодежные бунты, остались дом, семья. То есть, «У самовара я и моя Мэри (Кэтрин, Ингрид, Гретхен, et cetera)».
А мы все чего-то ждем. Как будто протрубит горнист «отбой», дадут команду «Вольно!», и вот тогда… И никак не изживем подросткового мироощущения, что это, мол, еще не жизнь, а так — черновик, а настоящая — впереди, вот-вот — и она наступит. Нам дана жизнь после жизни. Частная жизнь после долгой общественной. И прожить ее надо так, чтобы…
Я понимаю, что ничего не стоит мне возразить. Сказать, что все это справедливо не для таких обществ, где если не стрельба, так выборы. И что в призывах наслаждаться жизнью нет решительно ничего нового или оригинального — это еще гедонисты киренаики двадцать четыре века назад проповедовали. И что нищенские пенсии, и что мизерные зарплаты… Я знаю, я тоже живу здесь и теперь. Но слишком долго мы считали, что, в отличие от Запада, у нас есть уверенность в завтрашнем дне, который к тому же, несмотря на очевидный повседневный опыт победы социализма то над сыром, то над колбасой и колготками, непременно будет лучше, чем вчера. И кроме того, я вовсе не призываю жить, что называется, сегодняшним днем. Я призываю просто жить. И мечтать о том времени, когда можно будет просто любить свою родину, а не «странною любовью»… И еще. Недаром, ох, недаром, уныние — один из всего семи смертных грехов.
Я, к сожалению, не знаю, кто так лаконично, убедительно и наглядно подвел черту под дискуссией «А зачем все это?»: «Овца не понимала смысла жизни, пока не встретила волка». Человеку не выжить без юмора. Мы почему-то забываем об этом. В 1920 году в голодной и холодной Москве писатель Михаил Осоргин написал инструкцию «Копчение академической селедки в самоварной трубе», а годом позже еще одну — «Как прожить на советское жалование, ни в чем не нуждаясь и не нарушая декретов. Краткие практические рецепты домашнего обихода, как то: отдача взаймы кошки, помощь правосудию, воспитание мнимого поросенка, разведение бобовых и многое прочее».
Когда легче жить, к чему приспособиться? С ходу ответ на этот вопрос очевиден. Но если подумать… Перелом в каком-то смысле мобилизует все силы. А тут все плавно, вежливо. Как я недавно прочитала на двери закрытого на ремонт магазина: «Просим извинить за предоставленные неудобства». Да, это, конечно, временно. Но ведь и жизнь — временно.