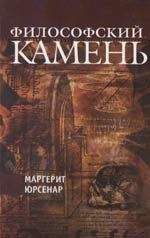Йоханнес Зиммель - Горькую чашу – до дна!
– У тебя!
– У меня?
Когда она сердилась, крылья ее узкого изящного носа вздрагивали.
– Она сама послала меня сюда. Чтобы я о тебе позаботилась, пока ты сидишь и ждешь этого звонка. – Без насмешки, но с большой горечью она сказала, подражая голосу моей жены: – «Если ты наконец не станешь лучше относиться к Папиту, я откажу тебе от дома! Говорю это на полном серьезе! Я не допущу, чтобы мой брак распался только потому, что моя милая доченька терпеть не может моего мужа!» – Как бурно она дышала, как колебались при этом ее юные грудки! – Она думает, что мы с тобой ненавидим друг друга! Все еще так думает… И поэтому, мол, ее брак в опасности… – Она схватила меня за плечи. – Эти люди там, на террасе… Она говорит, что они обсуждают контракт?
Я взглянул на братьев Уилсон и массивного Герберта Косташа, сидевших там, внизу, под пальмами, на террасе перед главным домом, и яростно споривших друг с другом.
– Все зависит от звонка, который я жду.
– Когда контракт будет заключен – ты ей все скажешь?
– Нет.
– Но ты мне обещал! Ты поклялся, что…
– Фильм! – сказал я. – Сначала надо сделать фильм. Потом я все скажу твоей матери.
– Не называй ее моей матерью! Она никогда не была для меня матерью! Всю жизнь думала только о себе! Как только мой отец умер, тут же появились разные дяди! И все время менялись! Она всю жизнь делала только то, что доставляло ей удовольствие, и ничего больше! А я? Гувернантки! Воспитательницы! Няни!
– Прекрати.
Но она не прекратила:
– В четыре года я уже оказалась в интернате! Чудесно для ребенка, правда? Роскошный интернат для детей миллионеров! И потом всю жизнь по пансионам! Все более роскошным! Зато домой – только на каникулы! За неделю я успевала вам надоесть!
– Это неправда!
– Правда, я все знаю! Я подслушивала ваши разговоры! Вы отсылали меня из дому, потому что я вам мешала! Это она! Она не хотела меня видеть! Годами держала меня вдали от дома! Я выросла среди чужих людей! А ты говоришь – мать! Да разве это мать? – Голос ее задрожал, она чуть не плакала. – Это она, она во всем виновата! – И вдруг ударила себя по лбу. – Нет, это я виновата! Ведь она – моя мать, несмотря на все, вопреки всему!
– Шерли!
– Я превратилась в какую-то развалину! Не могу ни есть, ни вести машину, ни спокойно разговаривать! Только и думаю о тебе… о тебе… и об этом…
– Шерли!
– Я заливаюсь краской! Запинаюсь на каждом слове! У меня все из рук валится! В монтажной я чуть не загубила лаванду!
– Возьми себя в руки! У всех есть нервы, у меня тоже!
– Ты! Ты взрослый человек! Лучше умеешь лгать! А я… Стоит ей взглянуть мне в лицо, как у меня все плывет перед глазами… Может, я говорю во сне? Может, у меня на лице все написано?
– Перестань, наконец, черт тебя побери! Кончай эту истерику!
– Ты запретил мне исповедаться! Отец Хорэс говорит…
– Не желаю этого слышать!
– Чего?
– Того, что говорит твой отец Хорэс!
– Ты подлец! Ты обманул меня!
– Это неправда!
– Ты поклялся, что скажешь ей все, как только заключишь контракт!
– Нет, я поклялся это сказать, когда съемки кончатся! Сначала я должен сняться в этом фильме!
– Почему?
Она уже кричала. Кричала своим детским тоненьким голоском. Здесь, наверху, она могла кричать сколько угодно, никто бы не услышал. Но она вдруг умолкла и, задыхаясь, прижала руки к груди. Мое сердце тоже на миг перестало биться. Внизу, у бассейна, жена моя внезапно села. Потом встала. Подняла голову и взглянула в сторону бунгало. Я знал, что она ничего не увидит через отсвечивающие стекла. И все же… все же… Вдруг она явится? Залитое слезами, искаженное лицо Шерли выдало бы нас с головой.
Фигура у моей жены была как у молодой девушки. К сожалению, она и одевалась как молодая девушка. Даже этот купальный костюм был ей не по возрасту. Она сделала три шага. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И все время глядела в нашу сторону.
– Она услышала твой крик.
– О Господи…
Жена нагнулась, подняла что-то с земли и вернулась к бассейну. Потом села. По ее движениям мы поняли, что она держала в руке: флакончик крема для загара. Намазав им плечи, она вновь легла вниз лицом, подложив под голову скрещенные руки. Наш спор тут же возобновился, но теперь уже тоном ниже, почти шепотом.
– Этот фильм – мой последний шанс. Я не напрасно ждал двадцать лет!
– Я! Я! Я! Ты всегда думаешь только о себе?
– О себе и о тебе! Нам нужны будут деньги, если я разведусь!
– Деньги!
– Вот именно, деньги! – Я стукнул кулаком по собственной ладони. – Здесь мы живем на ее капитал, позволь тебе напомнить! И все последние годы жили на ее средства!
Моя жена некогда была одной из самых неотразимых красоток в мюзик-холле Зигфельда и вышла замуж за одного из самых богатых маклеров по торговле земельными участками в Лос-Анджелесе. После его смерти она унаследовала все его состояние.
– А твои деньги? Куда подевались твои деньги? Ведь когда-то у тебя были миллионы?
– Когда? Когда это было? Двадцать лет назад! Тебя еще и на свете не было!
– Ну и что с того? Куда они подевались?
Истина заключалась в следующем: проиграл, прокутил и пустил по ветру. Промотал. Бессмысленно растратил. Вечно пьянствовал в компании таких же пьяниц. Даже занимаясь делами, был всегда пьян. Но этого я не сказал Шерли. Нет, Шерли я солгал:
– Я потерял все деньги во время кризиса… То было страшное время, о котором ты и понятия не имеешь…
– Мне не нужны деньги! Мы оба можем работать! Я готова жить с тобой и в бедности! Только бы уйти отсюда! Сказать Джоан правду и исчезнуть как можно быстрее!
Я притянул ее к себе, ухватив за длинные рыжие пряди. И, наверно, причинил ей боль, потому что она сдавленно и обиженно вскрикнула. А я сказал ей очень тихо:
– Я не буду жить в бедности, слышишь?
– Пусти!
– Никогда больше не буду… Никогда…
– Пусти меня!
– Бедность и нищета… Для тебя это пустые слова… Ты всегда жила в роскоши, имела все, что хочешь… А я нет… В детстве мне часто нечего было есть… Я мерз… голодал… Ты и понятия не имеешь обо всем этом! И пусть мы все погибнем, но я никогда больше не буду так жить! Вот почему мне нужен этот фильм… Только с его помощью я обрету независимость… от твоей матери. Вот почему тебе придется взять себя в руки… Владеть собой… И ждать. И дать мне спокойно работать… Чтобы потом мы могли жить в покое и счастье, ты и я.
– Никогда мы не будем счастливы, потому что не делаем ничего, чтобы покончить с грехом. Господь нас не простит!
– Господь! Господь! Неужто так необходимо все время Его поминать?
– Ты в Него не веришь, вот тебе и легко.
– Если двое действительно любят друг друга, Он им все простит, ты сама сказала.
– Только если они покаются…
– Шерли!
– Господь нас не простит, ибо Он нас не любит, не может больше любить…
Она уперлась мне в грудь, пытаясь вырваться. Наши тела сплелись, возбуждая в нас обоих желание. Я видел, как потемнели ее зеленые глаза, как затянулись поволокой. Она колотила меня кулачками, но и стонала.
– Не надо…
Я расстегнул пряжку на лифе ее купальника, и он упал.
– Нет!
Но в глазах ее ясно читалось желание, грудки дрожали, соски напряглись и затвердели.
– Не хочу… Пусти меня…
Но она уже не сопротивлялась. Ноги у нее подломились, и она упала в мои объятия.
Звено реактивных истребителей промчалось над нами в сторону океана. От их рева дрогнул воздух и даже земля затряслась. Мы опустились на тахту. Теперь Шерли страстно обхватила меня, тело ее содрогалось, губы впились в мои. Помню, что, когда наши руки уже согласно двигались, когда Шерли сама стянула с себя оставшуюся часть купальника, а я соскользнул с тахты на ковер и стоял перед ней на коленях, глядя на нее, обнаженную, в голову мне пришла безумная мысль.
Я подумал: через двадцать минут Хорвайн позвонит мне из Франкфурта. Если он скажет «да», я смогу сниматься в этом фильме. Если он скажет «нет», все кончено. А мы с ней все равно займемся любовью, слышишь, Бог, Ты, которого Шерли так любит и так боится. Покажи мне, что Ты благословляешь нашу любовь. Покажи, что Ты склонен нас простить. Сейчас мы займемся любовью. И пусть Хорвайн скажет мне «нет», раз я так насмехаюсь над Тобой и бросаю Тебе вызов.
– Господь нас не простит, ибо Он нас не любит, не может больше любить…
Еще двадцать минут, и мы все узнаем. Покажи мне, Ты, Бог Шерли, как Ты относишься к нам обоим, делающим здесь и сейчас то, что уже много раз делали и от чего всякий раз доходили почти до потери чувств.
Шерли тихонько стонет, а я ласкаю ее губами. Если Ты существуешь, Боже, то знаешь, почему я люблю Шерли. Если Ты существуешь, то это Ты делал ее с каждым годом все более похожей на ту, другую девушку, которую я никогда не смогу забыть. Если Ты существуешь, Ты так же виноват в том, что здесь происходит, как и я.
– О да… – стонет Шерли. – О да… – Ее рыжие волосы раскинулись пышным веером по нашим телам. Зеленые глаза, потемневшие чуть ли не до черноты, закрываются. Но мои широко открыты, и сквозь сгущающуюся пурпурную дымку я вижу дорожку между зарослями дрока и гибискуса, море, виндсерферы, суда, а также свою жену на краю плавательного бассейна.