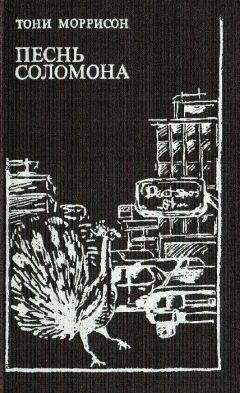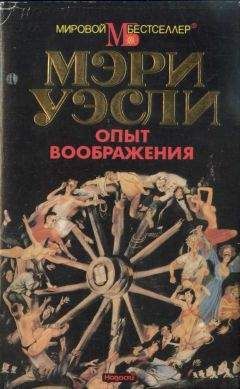Тони Моррисон - Джаз
В той части Города, ради которой они сюда перебрались, правильная мелодия, насвистываемая у дверей или улетающая с кругов и бороздок пластинки, может изменить погоду. От заморозков к жаре, от жары к прохладе.
Как в тот июльский день, почти девять лет назад, когда мерзли на улицах здоровые мужчины. В обычный летний день, влажный и солнечный, Алиса Манфред три часа стояла на Пятой авеню, дивясь на холодные черные лица и слушая барабанную дробь, выговаривающую то, о чем молчали идущие в марше[9] люди. Все, что поддавалось словесному выражению, было написано на знамени: что-то из Декларации Независимости. Но настоящее значение скрывалось в барабанном бое. Был июль 1917 года, и красивые лица были холодны и спокойны, медленно заполняя пространство, отвоеванное для них барабанными палочками.
Пока они маршировали, Алисе показалось, что прошел день, промелькнула ночь, а она все стояла, держа за руку малышку, пристально глядя в одно за одним проплывавшие мимо холодные лица. Барабаны и застывшие, как на морозе, лица причиняли ей боль, но боль лучше страха, а Алиса боялась уже давно – сначала боялась в Иллинойсе, потом в Спрингфилде, штат Массачусетс, потом на Одиннадцатой авеню, на Третьей авеню, на Парк-авеню. Южнее 110-й улицы она вообще не чувствовала себя в безопасности, а Пятая авеню была самой страшной из всех. Это здесь выглядывали из автомобилей белые и.махали зажатыми в ладонях долларовыми бумажками. Здесь продавцы дотрагивались до нее, как будто она была вещью, частью того товара, который она сподобилась счастья у них за свои же деньги купить. Здесь требовалось обернуть себя бумагой перед тем, как примерить блузку (но ни в коем случае не шляпу) с разрешения хозяина. Здесь она, независимая пятидесятилетняя женщина со средствами, не имела фамилии. Здесь говорившие по-английски дамы в автобусе окликали друг друга: «Не садись рядом с ней, голубушка, неизвестно, что у них может быть». А женщины, которые не знали ни одного английского слова и не имели денег на пару шелковых чулок, вставали, если она опускалась на сиденье рядом с ними.
Теперь во всю ширину Пятой авеню катил ась волна холодных черных лиц, молчаливых и неподвижных, доверивших барабану сказать все, о чем молчали губы и что видели их глаза. Боль по-прежнему была в ней, но страх ушел. Пятая авеню прочно заняла ее внимание наравне с заботой о только что осиротевшей малышке, стоявшей рядом.
С этого времени она заплетала волосы девочки в тугие косички и подвязывала их, чтобы белые не увидели сверкающего дождя волос и не стали тянуть к нему свои обернутые долларами пальцы. Она учила ее глухоте и слепоте и тому, как полезны эти качества в присутствии белых женщин, говорящих либо не говорящих по-английски, а также в обществе их детей. Учила ее, как надо красться вдоль стен домов, исчезать в темных проемах дверей, срезать углы в уличных пробках – делать все, лишь бы избежать встречи с белыми мальчишками старше одиннадцати лет. Много помогала одежда, но по мере того, как девочка взрослела, приходилось разрабатывать все более изощренные ограничения. Туфли на высоких каблуках с изящными ремешками вокруг щиколотки, роковые шляпы с широкими полями, кокетливо обрамляющими лицо, какая бы то ни было косметика – в доме Алисы Манфред все это было вне закона. А особенно пальто, небрежно наброшенное на плечи, не застегивающееся на пуговицы, а запахивающееся как банный халат или купальная простыня, словно надевшие их женщины только что вышли из ванны и уже готовы в постель.
Лично ей нравились и сами пальто, и женщины в них. Иногда, чтобы подработать, она с удовольствием пришивала подкладки к стильным нарядам, а встречая на Седьмой авеню городских красавиц и щеголих, не могла удержаться, чтобы не посмотреть им вслед, такие они были элегантные. Но смешанное с завистью восхищение тщательно скрывалось, чтобы малышка не заметила, как нравится ей эта улично-постельная одежда. Она имела разговор с сестрицами Миллер, державшими детский сад на дому для работающих мамаш, во время которого разъяснила им свои взгляды на женскую одежду. Хотя их, уже добрый десяток лет ожидавших конца света, не надо было ни в чем убеждать. Они самолично вели список всех ресторанов, кафе и клубов, тайком продававших спиртное, и постукивали в полицию на их владельцев и завсегдатаев, пока в отделе по рэкету им не дали понять, что их сведения излишни.
В те дни, когда, закончив очередной заказ, Алиса Манфред заходила к сестрам за ребенком, три женщины усаживались на кухне и за чашкой чая беседовали о последних временах, вздыхая о неотвратимом Суде: вот уже юбки не по колено, а выше, на губах краска как адское пламя, брови подведены жженой спичкой, ногти словно в кровь окунули – не разберешь, где уличная шлюха, а где мать семейства. А мужчины, эти тоже, знаете ли, такое могут сказать незнакомой женщине на улице, что при детях язык не повернется повторить. Что творится на танцах, они, конечно, не знали, но подозревали, что что-то несусветное, потому как музыка с каждым годом долготерпения Господня становится все ужаснее. Песни, раньше звучавшие в ушах и шедшие прямо в сердце, теперь опустились вниз, под поясок и брючный ремень. Все ниже и ниже, и уже до того дошло, что летом невозможно окно открыть, приходится потеть в помещении, а все потому, что мужчины, сидящие в одних рубахах на окнах или собирающиеся на крышах домов, в переулках и на открытых верандах, наигрывают развратные мелодии, словно сигналят ангелам на небо, что пора уже им браться за свои трубы. А женщины? В одной руке ребенок, в другой сковородка, и туда же, поет: «Приляг ко мне, где милый мой лежал». Поет, потому что деваться от нее некуда, от этой песенки. Даже если жить рядом с Алисой Манфред и сестрицами Миллер на тихой Клифтон-плейс, где каждые сто футов растут огромные деревья с густой листвой, где на всю улочку едва насчитаешь пяток машин, приткнутых к обочине, и то ее слышно, а уж как она влияет на детей, сданных сестрицам, и говорить не приходится: туда же, задерут подбородок и вертят тощими бедрами.
Алиса подумала, что гнусная музыка (в Иллинойсе было еще хуже) имеет какое-то отношение к молчаливым черным женщинам и мужчинам, шагавшим по Пятой авеню в знак протеста против гибели двухсот человек в восточном Сент-Луисе[10]. В число которых входили ее сестра с мужем, убитые в беспорядках. А белых погибло столько, что газеты даже не привели цифр.
Говорили, что бунтовщики – это недовольные вояки из цветных частей,
которым отказала в содействии Христианская ассоциация молодых людей[11], вернувшись же домой, они столкнулись С притеснением, худшим, чем до войны, а в отличие от боев в Европе, эта битва дома была безжалостной и абсолютно бесчестной. По мнению других, начали беспорядки белые, испугавшись притока негров с юга, хлынувших в города в поисках работы и жилья. Третьи добавляли, как хорошо организованы рабочие, как крабы в бочке – не требуют ни крышки, ни палки, и даже присматривать за ними не надо – ни один не вылез.
Но Алиса-то считала, что ей одной известны истинные причины событий. Муж ее сестры не воевал на фронте, никуда не переезжал, а жил себе в восточном Сент-Луисе еще до войны, и чужое место ему было не нужно – он держал собственную бильярдную. Он не участвовал в беспорядках, не носил оружия, не дрался на улицах. Его просто вытащили из трамвая и затоптали насмерть. Сестра Алисы пошла домой, чтобы попробовать забыть цвет его кишок, но дом подожгли, и она превратилась в уголек. Ее единственный ребенок, девочка по имени Доркас, ночевала у своей подружки через дорогу и не слышала свиста и громыхания пожарной машины, несущейся по улицам по той причине, что никакой машины не было: никто не приехал на вызов.
Малышка наверняка видела огонь, на улице ведь стоял такой крик. Но ничего не сказала. Ни тогда, ни потом. Была на двух похоронах за пять дней и не сказала ни слова.
Алиса думала, нет, это не война, и не обозленные солдаты, и не табуны цветных, подавшихся на заработки, и нечерные лица на городских улицах. Это музыка. Грязная, бьющая вниз музыка – ее играли мужчины, под нее пели женщины, танцевали и те, и другие: бесстыдно прижавшись друг к другу или бешено извиваясь, если по одиночке. Алиса была уверена, не сомневались в этом и сестрицы Миллер, дуя на чай в своей кухне. Музыка толкала людей на безрассудные неправильные дела. И слушать-то ее было все равно что совершать беззаконие.
Ничего общего с маршем на Пятой авеню. Здесь только барабаны да черные мальчишки-скауты, раздающие листовки белым в соломенных шляпах, чтобы они поняли, что происходит. Алиса подняла одну упавшую листовку, прочитала и переступила с ноги на ногу. Потом снова прочитала и посмотрела на Доркас. Посмотрела на Доркас и опять прочитала. Написанное показалось ей безумным, бьющим мимо цели. Какой-то провал зиял между словами и ребенком. Она переводила взгляд с листовки на малышку, пытаясь установить связь, убрать расстояние между тихим внимательным детским взглядом и ускользающими сумасшедшими словами. И словно брошенная на помощь веревка, барабанный бой обнял пропасть, все собрав и связав воедино: Алису, Доркас, сестру с мужем, бойскаутов, холодные черные лица людей, стоявших на тротуаре.