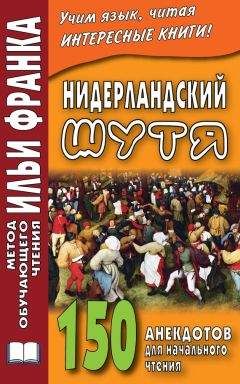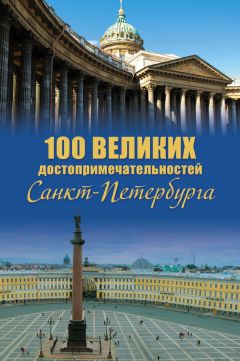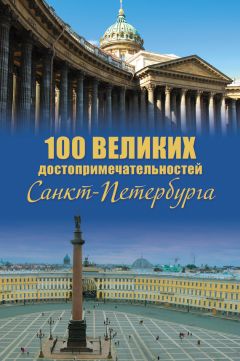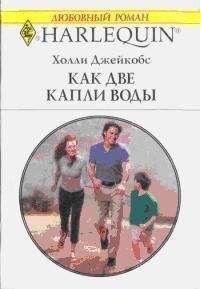Питер Ватердринкер - Кольцо Либмана
— К вам доктор… — послышался из коридора опереточный голосок, и дверь медленно отворилась.
На пороге стоял пожилой чудак с птичьей головой и маленькими круглыми очечками на носу. В руках он сжимал черную кожаную сумку, напоминающую гигантский кошелек. Но улыбка на его лице была вполне дружелюбная.
— Финкельштейн, — представился он, протягивая мне руку.
Мне пришлось снять банный халат и лечь навзничь на постель, чего я терпеть не могу, особенно в присутствии посторонних мужчин. Кровь стучала у меня в висках. Я слышал гул машин и грузовиков, которые тарахтели под окнами целый день, словно танки по дороге на фронт.
— Сколько времени, доктор? — спросил я у врача, который тоже отлично говорил по-немецки.
Я продолжал наблюдать за ним краешком глаза. Сквозь пушок, покрывавший его лиловатый череп, просвечивало несколько здоровенных прыщей.
— Расслабьтесь, — бормотал он себе под нос, роясь в своем врачебном чемоданчике.
Он извлек из него баночку с белым гуталином и принюхался. Через некоторое время восхитительный крем впитался в мои поры; чудесный бальзам на основе алое с ментолом, покалывая, разогревал мою кожу, словно хрустящий сухой лед.
— Ну-с, так, а теперь измерим температуру.
Он поставил мне под мышку градусник, а сам костяшками пальцев начал простукивать мою грудную клетку. Пальцы у него были твердые как камень. Звук при простукивании отдавал пустотой. Я спросил его, чем объяснить, что в этом городе все так хорошо говорят по-немецки. Врач смачно пожевал лиловыми губами и начал оживленно рассказывать:
— Мои предки поселились здесь двести лет назад; моего легендарного пращура, скрипача и изобретателя Клуга Финкельштейна, в свое время привезла из Бремена в Россию Екатерина Великая. Это замечательная история. Кстати, сударь, вы принимаете какие-нибудь лекарства?
Что за запах я вдруг учуял? Нет, это была не мазь. Как-как он сказал? Финкельштейн? Да это же девичья фамилия моей супруги — какое совпадение! Я наполовину приподнялся, при этом термометр выскользнул у меня из-под мышки и бесшумно упал на пол возле кровати.
— Прошу аккуратнее обращаться с медицинским инструментарием, bitte, — пробормотал врач, бережно поднимая с пола градусник. — На нас тут манна с небес не сыплется. В стране кризис.
Он по-идиотски осклабился. Вначале я еще сомневался, подумал, что это, может быть, запах эфира, но потом сомнений не осталось: это был запах водки, недавно принятого внутрь зелья. Оказалось, что этот дипломированный лекарь, черт его побери, просто-напросто пьян! Финкельштейн? Ну и ну!
— А как Вас зовут?
— Либман, — ответил я. — С одним «н» на конце…
— Тридцать шесть и четыре, — пробормотал врач. — Странно, с температурой полный порядок. Ну-с, теперь посмотрим, как с давлением.
Он обмотал мне руку манжетом и туго закрепил его. Вскоре моя правая рука потеряла чувствительность. От запаха оранжевой резины голова у меня снова закружилась, как это было со мной в семь лет, когда мне должны были вырезать гланды. Перед глазами у меня поплыли круги. Снова все стало как тогда: теплый майский день, повсюду распускаются японские вишни. Я на ходу спрашиваю:
— Куда мы идем, мама?
— Иди-иди, сынок, скоро сам узнаешь.
Мы проходим по посыпанной гравием дорожке, открываем обитую кованым железом дверь и попадаем в коридор, выложенный плитками цвета морской волны, в котором витает запах еды, я вижу лысого мужчину в белом халате, молча склонившегося надо мной, и вдруг мне на лицо опускают резиновую маску, а рядом стоит моя мама, она улыбается мне и в то же время смотрит испуганно… И… оп-ля… Что это? Я снова вижу маму. Она парит в воздухе справа от меня, на шее у нее жемчужные бусы, сама она в платье, о котором за неделю до того, как превратиться в растение, мне сказала: «В этом платье, Янтье, я хочу, чтобы меня похоронили».
— Ну как ты, маленький юнга? — тихо спрашивает она.
— Здравствуй, мама, — говорю я. — Ну что, все в порядке?
— Со мной все в порядке, мальчик. Уход здесь хороший. А как ты?
— Он снова холостяк, Герда, — пробасил мой отец, появляясь из-за штор. — Наконец-то он отделался от этой дряни Эвы.
В синеватом сумраке маячит его красивое лицо. Смазанные бриллиантином волосы зачесаны назад. Он слюнявит самокрутку. Заворачивает в бумагу табак марки «Яванец», он всегда его обожал. И всегда шутил: «Лучший яванец — тот, который медленно превращается в дым». В этом слове «медленно» он видел особый шик.
— Что вы такое говорите, папа? Вы снова лжете.
— Я три года отсидел. Лгать мне теперь незачем. Бери, не стесняйся, мой мальчик, накладывай себе побольше клубники со сливками. Ведь с этой Жанной дʼАрк тебе в жизни пришлось несладко.
На его губах появилась хищная ухмылка.
— Скажи-ка разок «Финкельштейн», сделай милость, — наконец просит он, икая от предвкушаемого удовольствия. — Ну, давай же: Финкельштейн…
— Финкельштейн, Финкельштейн!
Я молотил, что было силы, ногами и руками, пытаясь отпихнуть от себя прочь лицо моего отца, но все время промахивался.
— Финкельштейн!
— Да-да… уже иду… — доктор, нервно шаркая, подбежал ко мне и, вытирая руки салфеткой цвета слоновой кости, пояснил:
— Вы как иностранец этого, конечно, не знаете, но в России обращаться к человеку просто по фамилии считается невежливым. Разрешите представиться: Иосиф Абрамович.
Он снова икнул; его костлявый кадык запрыгал как поплавок вверх-вниз.
— Вы твердо уверены, что не принимаете никаких лекарств? Или мне придется направить Вас на анализ?
— Нет, не нужно никаких анализов, — едва не застонал я в ответ, наблюдая, как лица моих родителей тают в перламутровой дымке. — Я до сих пор никогда ничего не принимал.
— Ну ладно, ладно. Не надо только сказки рассказывать.
Врач с дьявольским проворством извлек откуда-то две полные бутылки водки.
— А это что у вас? Отличная штука. Чистая как слеза. Отдаю должное вашему вкусу. Продукция столичного концерна «Кристалл». Да их тут у вас немало! Но не собирались же вы все это употребить один? Или собирались?
И почему этот странный тип позволяет себе рыться в моих шкафах? Вначале явился к пациенту в стельку пьяный, а теперь еще повсюду бесстыдно роется…
— Заберите их себе, — хриплым голосом произнес я, — у меня такого товара целый запас. Купил по совету бельгийца. Кризис ведь.
— Бельгийца, говорите?
Бутылки с водкой исчезли с тем же акробатическим изяществом, с каким только что появились. Затем он закурил папиросу и сказал (при этом брови его зашевелились как две живые гусеницы):
— Можно я чисто по-человечески задам Вам один вопрос, герр Либман, что Вам понадобилось в нашем проклятом городе?
— Я здесь по частному делу.
— М-да, понятно. И насколько же?
А ему что за дело? Я ведь не обязан никому давать отчет? Словно я не вдоволь наобщался с дотошным доктором Дюком! Я с трудом приподнялся с места и спросил, сколько я ему должен. Но Финкельштейн меня не услышал. Он сидел на стуле, уставившись в окно, как жалкая марионетка перед выцветшей оконной рамой и самозабвенно курил.
— Эй, доктор? Выпишите, пожалуйста, счет!
— Что дадите, на том и спасибо, — отозвался Финкельштейн и, работая руками, словно ластами, принялся сгребать в кучу свои вещи. — Мал золотник, да дорог, наш брат медик за него вам «спасибо» скажет.
Дурак! Я нашарил под подушкой несколько долларовых бумажек, сунул ему в холодную руку и подумал: у меня наличные кончаются. Мне придется отсюда уезжать. Да, как можно скорее найти свое кольцо, не то я погиб. Но как это сделать? В этом городе, охваченном кризисом, пять миллионов жителей. Попробуй разыщи!
10
Из аэропорта в город меня вез туристический автобус — эта развалюха на колесах вся пестрела надписями, как старинная коробка из-под сигарет. Я сразу же забрался на самое дальнее сиденье. Никогда еще мне не приходилось тащиться по столь отвратительным дорогам. Мой чемоданчик как ребенок-дошкольник подпрыгивал у меня на коленях, в салоне удушливо пахло выхлопным газом.
Через некоторое время кто-то достал пачку голландских пряников и пустил ее по рядам.
— А вы там, в конце, не хотите ли пряничка?
— Нет, спасибо, — с вежливой улыбкой отказался я.
— Правда не будете?
— Пожалуйста, не беспокойтесь.
На фоне акварельного неба маячил лес фабричных труб в красно-белую полоску, похожих на трости слепого, которые зачем-то поджег какой-то шутник. Какой-то мотоциклист в защитные очках на драндулете с коляской доисторического года выпуска нагнал нас и помахал рукой. Его желтый шарф серпантином развевался на ветру. Впереди показались первые жилые дома.
— До этой черты дошли во время войны гитлеровские фашисты, — объясняла гид — автобус тем временем объезжал вокруг памятника, установленного на иссеченной дождями площади.