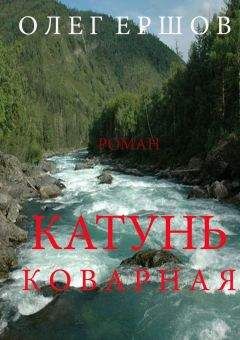Луи-Рене Дефоре - Болтун. Детская комната. Морские мегеры
Глава II
Я побежал, спотыкаясь, к дверям, но перед тем как их распахнуть, оглянулся. Она сидела на прежнем месте, сотрясаясь от смеха, по ее лицу текли слезы. Вокруг нее, так же раскатисто смеясь, упирая руки в бедра и выпятив животы, толпились посетители, обрадованные тем, что можно наконец нарушить молчание, в которое их повергла моя длинная речь, и дать выход раздражению; впрочем, выражать свои чувства они могли только бессловесно — буйным весельем, пронзительными взвизгиваньями и смачным похлопыванием себя по ляжкам. Меня чуть не вывернуло от этого зрелища! Едва я затворил за собой двери, бар наполнился отрывистым гоготом, похожим на стрекотанье пулемета. Выйдя из жарко натопленного, шумного зала, я испытал облегчение, но лишь в первую минуту. Снег на тротуарах затвердел, подмораживало. Холод проникал сквозь одежду, сквозь поры, расширенные алкоголем, пробирал до мозга костей. Улицы были безлюдны, темны, лишь в отдалении блестели редкие фонари. Я поглубже засунул руки в карманы, поднял воротник пальто, застегнул его на верхнюю пуговицу и побрел вдоль стены, с опаской глядя по сторонам и время от времени посматривая назад: нужно было убедиться, что за мной никто не идет. По тусклому обледенелому асфальту мостовой, усеянной снежными пятнами, бежала, постепенно истончаясь и пропадая в сумраке, белая разделительная полоса. До меня еще долетали смех и голоса, приглушенные ватным воздухом, слившиеся в неразборчивый гул, — я различал только металлические нотки оркестра, вновь, на этот раз будто под сурдинку, заигравшего какую-то мелодию. От мороза перехватило дыхание, я на мгновение остановился и не без удовольствия обвел взглядом улицу. С одной стороны, прямо передо мной, тянулось длинное невысокое здание, фасад которого представлял собой сплошную белую стену с единственными большими воротами: тяжелые створки были распахнуты настежь, в глубине прятался окруженный решеткой сад, в это время года занесенный снегом; с другой — ряд маленьких домиков, замечательных, пожалуй, только тем, что все они были каменные и под каждым окном лепился балкончик с кованой оградкой одного и того же рисунка, — тонкий слой снега, покрывшего все вокруг, делал идеальную тождественность этих узоров еще более наглядной. Вдали, замыкая перспективу, мерцали пышные белые купы деревьев городского парка, а над ними, подобно горной вершине, высилась большая ель, вот уже тридцать лет составлявшая главное его украшение. Вся эта застывшая абстрактная декорация, эти здания, которым снегопад, оттенивший их контуры и вылощивший поверхности крыш, придал особую строгость, тихая и, можно сказать, мертвенная атмосфера, пустынность чистых прямых улиц, выглядевших так, словно город покинули все жители, да еще эти зияющие ворота, открывавшие вид на столь же пустынный двор, были отмечены печатью странной, нечеловеческой силы, всегда, в каком бы обличье я ее ни встречал, заставляющей мое сердце учащенно биться, — и в этот миг я, может быть, особенно высоко оценил свойственное ей сочетание бархатистости и суровости, геометрической стройности и чудесной таинственности, благодаря чему она так разительно отличалась от хаоса, царившего в притоне, двери которого только что за мной захлопнулись; я далек от того, чтобы усматривать здесь нечто большее, чем простое совпадение, но все-таки не могу не сказать, что перепад этот в точности соответствовал двум основным природным склонностям, понуждавшим меня непрестанно колебаться и, как иногда кажется, управлявшим всеми движениями моих чувств: внезапно преисполняясь неодолимым отвращением к жизни в обществе, с его интригами, мелкими страстишками и пустословием, к тяжелому, как в парной, жару, источаемому толчеей, в которую нас так или иначе втягивают тоскливые будничные обязанности, я всей душой желал от них избавиться, чтобы вкусить спасительного свежего воздуха и тишины, но не успевал последовать своему желанию, как начинал бояться, что навсегда потеряю связь с людьми, и боязни этой оказывалось достаточно, чтобы я оправдал перед самим собой сдачу позиции, представлявшейся мне наиболее достойной, и вновь спешил изгваздаться в грязи общества, с наслаждением окунался в эту клоаку, хотя вскоре, не умея с нею свыкнуться и в очередной раз понимая, что не способен соединить свою жизнь с жизнью других, отплевываясь, бросался вон, торопясь укрыться в недосягаемом месте, рисовавшемся мне в мечтах, — и так без конца. Это состояние вечных метаний из стороны в сторону было для меня одним из самых мучительных, но в настоящий момент я еще не достиг стадии неудовлетворенности одиночеством: вспоминая прокуренный душный зал, резкий свет, падавший на скученную толпу, вульгарный смех женщины, словно изменившей нашему молчаливому соглашению, наконец, картину народного разгула, столь забавлявшую меня пару минут назад, я лишь острее чувствовал, как приятно созерцать неподвижный, ледяной и безмолвный пейзаж, где я был единственной живой душой.
Но все же, едва я свернул в узкий переулок и в моих ушах загудел напористый северный ветер, мне отчаянно захотелось вспомнить, как улыбалась, танцуя со мной, эта женщина. Вообще-то для меня, если нужно, не составляет труда сохранить в памяти занятную сценку или, например, необычное лицо прохожего, и часто во время ночной бессонницы мне случается мысленно воссоздавать такое лицо, добиваясь поистине замечательной ясности, пока, утомленный перебиранием его мельчайших черточек, я не обращаюсь к другому предмету, — однако на этот раз я при всем старании не мог отыскать в себе и слабого следа той улыбки, несмотря на завораживающее действие, которое, как я уже говорил, она на меня оказывала. Это меня безмерно раздражало: я хотел ее вспомнить, хотел вспомнить ее во что бы то ни стало, хотел этого тем сильнее, чем решительнее отказывался признать свое поражение, — и я начинал с того, что пытался представить себе волосы этой женщины, камешки в ее серьгах, и эту диковинную манеру смотреть с прищуром, и ее нос… да, какой же у нее был нос? и вот так, шажок за шажком, приближался к области, где уже было «горячо», однако в тот самый момент, когда ее улыбка была, казалось, у меня в руках, раздавался чудовищный взрыв смеха, заполнявшего все пространство моей памяти. Мне ничего не оставалось, как вновь, с удвоенной осторожностью и хитростью, возобновлять приступ, пока наконец повторявшиеся раз за разом неудачи не заставили меня смириться с поражением. А вот смех этот, напротив, я видел отчетливо, я видел его слишком ясно: мне даже стало страшно, что воспоминание о нем не оставит меня и за гробом.
Ну нет, хватит! Я же лгу! Я только что лгал, пространно рассуждая о том, какое облегчение будто бы испытал при виде этого холодного и безмолвного пейзажа, — по правде говоря, он заботил меня так же мало, как припоминание облика женщины, безвозвратно потерявшей в моих глазах все очарование, все волшебство, которым она была обязана в первую очередь своей загадочной улыбке. Я лгал, я с горечью вынужден признать, что мое настроение было далеко не благостным, — но разве мог я, всего несколькими мгновениями раньше и к тому же в описанной ситуации, оскорбленный куда более тяжко, чем если бы мне при всех плюнули в лицо, придавать хоть какое-нибудь значение льдистой чистоте этой улицы, по которой торопливо брел, прижимаясь к стенам, как опозоренная тварь? Я даже не пробовал избавиться от чувства отчаяния и презрения к самому себе, охватившего меня после того взрыва смеха, который, как ни парадоксально, вновь и вновь вызывал в памяти с непонятным упрямством, объяснявшимся, надо думать, властной притягательностью этого воспоминания для моего ума, терзаемого и сознанием собственной вины, и мыслью о вполне очевидном унижении, — и ничего мне не хотелось так, как довести это ощущение проклятия до высшей точки, ибо оно стало для меня источником определенной радости, схожей с той, какой упивается кающийся грешник, не просто готовый понести справедливое наказание, но требующий для себя этого наказания так же горячо, как жаждет искупить свой грех. Да, я действительно был склонен видеть в этом смехе наказание, навлеченное на меня самовлюбленностью и желанием пооткровенничать, за что, сколь приятным ни было чувство облегчения в момент исповеди, мне и пришлось сурово поплатиться. Теперь, видимо, ожидается, что я попытаюсь дать своему вранью какое-то приемлемое объяснение — по меньшей мере, этого ждут от меня те, кто страстно хотят увидеть, как я провалюсь в яму новой лжи, и с усмешкой предлагают мне найти оправдание для прежней. Они будут весьма удивлены и, не исключаю, польщены, если я признаюсь, что мне просто хотелось отвести им глаза: я приписал себе все эти более чем вероятные мысли не столько из боязни вновь ощутить стыд при воспоминании о смехе женщины, поразившем меня хуже острого ножа, сколько потому, что у меня были причины бояться другого смеха; я имею в виду их собственный смех — да-да, ваш, ваш смех, господа! Я сейчас сделаю презабавное заявление; точнее, с уверенностью предсказываю, что многие читатели, не питающие ко мне добрых чувств, сочтут это заявление таковым. Но сначала мне кажется необходимым заметить, что шутник из меня скверный, способностями к паясничанью я не наделен и обмануться в этом отношении могут лишь люди, готовые хохотать над тем, в чем они не смыслят, иначе говоря, считающие смешными вещи, которые скорее можно назвать грустными, — что, впрочем, никогда еще не мешало людям противоположного сорта обливаться слезами там, где, наоборот, есть над чем посмеяться. Не зная толком, к какой из двух категорий я обращаюсь, думаю, что в любом случае не слишком обременю и тех, и других, если попрошу их сохранять, причем всерьез, без лицемерия, абсолютное бесстрастие (я не сказал, что требую истинной вдумчивости), или, раз уж им невмоготу себя сдержать, хотя бы презрительное молчание, сопровождаемое, так и быть, царственным пожатием плеч, — поймут ли меня наконец, если я скажу, что нуждаюсь не столько в сочувствии, похвале, уважении, заинтересованности, сколько в молчании? Ах, молчание, молчание! Разве мне поверят, если здесь, на этих страницах, я дерзко провозглашу, что мне нестерпимо омерзительны люди, спятившие на желании открыть сердце ближнему? Это заявление обрадует иных дуралеев, пытающихся втихомолку ловить меня на непоследовательности, и смутит кое-какие голубиные души, настроившиеся после прилежного, хотя не слишком внимательного чтения предыдущих страниц на снисходительный лад, и я уже слышу, как они — первые с насмешливой улыбкой, вторые — воздев руки к небу, — спрашивают, чем же именно, по моему собственному мнению, я так долго занимаюсь. Ничуть не поставленный в тупик их бестактным вопросом, я берусь ответить на него чуть позже, когда будет удобнее это сделать, однако, понимая, что от меня требуют немедленного ответа, прошу читателей, гордящихся тем, что уличили меня в противоречии, заметить прямо сейчас: они совершат по отношению ко мне большую ошибку, чтобы не сказать большую несправедливость, если откажутся принять в расчет болезнь, которую в различных ее проявлениях я намерен описать для них ниже. К остальному я в нужный момент еще вернусь.