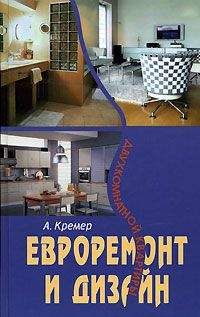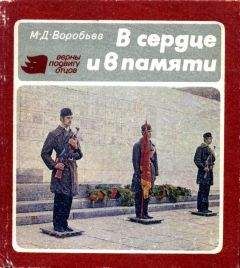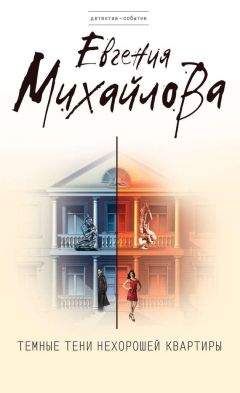Сильвио Пеллико - Пеллико С. Мои темницы. Штильгебауер Э. Пурпур. Ситон-Мерримен Г. В бархатных когтях
XXVI
Когда эта борьба кончилась и когда я вновь, как мне казалось, стал твердым в вере в Бога, я наслаждался некоторое время самым сладким миром. Допросы, которым подвергала меня комиссия каждые два или три дня, как они ни были мучительны, уже не причиняли мне больше продолжительного беспокойства. Я старался в этом трудном положении не изменить долгу чести и дружбы и затем говорил себе: а в остальном да будет воля Божия.
Я опять вернулся к точному выполнению ежедневной подготовки себя ко всякой случайности, ко всякой тревоге, ко всякому предполагаемому несчастию, и это занятие вновь принесло мне много пользы.
Мое одиночество между тем увеличилось. Оба сына тюремного смотрителя, иногда приходившие ко мне ненадолго, были отправлены в школу и, бывая теперь чрезвычайно мало дома, больше уже не приходили ко мне. Мать и сестра, когда бывали тут мальчики, также часто останавливались поболтать со мной, а теперь появлялись только за тем, чтобы подать кофе, и сейчас же оставляли меня. Что касается матери, я мало сожалел о том, потому что она не выказывала ни малейшего сострадания. Но у дочери, хотя и некрасивой, была некоторая нежность взгляда и речи, которые не остались не замеченными мной. Если она приносила мне кофе и говорила: «Это я его делала», — кофе казался мне всегда превосходным. Если же говорила: «Его мама делала», — вода была горяча.
Видя так редко людей, я занялся муравьями, которые появлялись на моем окне, роскошно кормил их; эти уже призывали с собой целое войско товарищей, и окно кишело этими насекомыми. Я занялся также красивым пауком, который сплёл паутину на одной из моих стен. Кормил я его мушками и комарами, и он так подружился со мной, что спускался на кровать и на руку и брал добычу с моего пальца.
Только и были одни насекомые моими посетителями! Была еще весна, а комары уже размножились в страшном количестве. Зима была чрезвычайно мягкая, и после небольших мартовских ветров наступила жара. Трудно выразить, как раскалялся воздух берлоги, в которой я жил. Находясь под лучами южного солнца, живя под свинцовою крышей, имея окно, выходящее на крышу св. Марка, также крытую свинцом, отражение от которой было ужасное, я задыхался. Я никогда не имел ни малейшего понятия о такой страшной, подавляющей жаре. К этому мучению присоединились еще комары в таком количестве, что, сколько я ни метался, сколько ни убивал их, я был покрыт ими; постель, столик, стул, пол, стены, потолок — все было ими покрыто; вся комната кишела ими: они беспрестанно прилетали и вылетали в окно, производя адское жужжанье. Жалили эти твари чрезвычайно больно, и когда тебя жалят с утра и до вечера и с вечера до утра, да притом ты должен еще постоянно беспокоиться, придумывая, как бы уменьшить их число, — так истинно страдаешь и телом, и духом.
Тогда-то, испытав подобный бич, я познал его тяжесть; просил и не мог добиться, чтобы мне переменили комнату, и тогда мной овладело искушение — покончить жизнь самоубийством, и я боялся, что сойду с ума. Но, благодарение небу, это безумие было кратковременно, и религия продолжала поддерживать меня. Она убедила меня, что человек должен страдать и страдать с твердостью; она дала мне познать сладость горя, дала познать ту радость, когда не падаешь под тяжестью его, когда все одолеваешь.
Я говорил себе: чем горше будет жизнь моя, тем менее страшно мне будет увидеть себя в такие молодые годы, как мои, приговоренным к казни. Без этих предварительных страданий я умер бы, может быть, трусом. Да и такие ли у меня добродетели, чтобы я достоин был счастья? Где они?
И, со справедливою строгостью спрашивая себя, я нашел в прожитых мною годах немного поступков, заслуживающих некоторой похвалы: все остальное были глупые страсти, служение кумирам, гордая и ложная добродетель. «Так и страдай, недостойный! — заключил я. — Если люди и комары убьют тебя, хотя бы по злобе и без всякого права, познай в них орудия Божественной справедливости и молчи!»
XXVII
Нужна ли человеку сила для искреннего смирения? Для признания себя грешником? Разве не правда то, что мы вообще тратим молодость по-пустому и вместо того, чтобы употреблять наши силы на движение вперед по пути к благу, мы употребляем их большею частью на собственное разрушение. Есть здесь исключения, но признаюсь, что они не касаются моей бедной персоны. И нет никакой заслуги в том, что я признаюсь в недовольстве собою: если видишь, что лампа дает больше дыму, чем свету, не будет большой искренностью сказать, что она горит не как следует.
Да, без самоунижения, без лицемерной совестливости, смотря на себя со всем возможным спокойствием мысли, я нашел себя достойным кары Бога. Внутренний голос говорил мне: подобные наказания должны быть тебе, если не за это, так за другое; они дали тебе возможность опять придти к Тому, Кто совершенен, и подражать Которому призваны все смертные по мере их ограниченных сил.
На каком же основании стал бы я жаловаться, если одни люди явились по отношению ко мне подлыми, другие — несправедливыми, если мирские радости у меня были отняты, если я должен был зачахнуть в тюрьме или погибнуть насильственной смертью, когда я сам принужден обвинить себя в тысяче проступков против Бога?
Я старался твердо запечатлеть в своем сердце эти столь справедливые рассуждения: и, сделав это, я увидел, что нужно быть последовательным и что им нельзя быть иначе, как благословляя правый суд Божий, любя его и подавляя в себе всякое желание, противоречащее ему.
Чтобы стать более твердым в этом решении, я задумал отныне впредь тщательно излагать письменно все мои чувства. Плохо было то, что комиссия, позволяя мне иметь письменные принадлежности и бумагу, пронумеровала листы этой бумаги, с воспрещением уничтожить хоть один, и оставила за собой право исследования, на что я употребил эту бумагу. Чтобы заменить бумагу, я прибег к невинной хитрости — полировал кусочком стекла грубый столик, стоявший у меня, и на нем потом писал каждый день длинные размышления об обязанностях человека и в особенности о моих обязанностях.
Я не преувеличиваю, говоря, что для меня часы, употребленные так, были иногда полны наслаждения, несмотря на трудность дыхания, которую я испытывал от чрезмерного жара и мучительнейших укусов комаров. Чтобы уменьшить количество этих последних, я был вынужден, несмотря на жару, писать не только в перчатках, но и обвязав себе запястье, чтобы комары не попали за рукава.
Эти мои рассуждения носили характер скорее биографический. Я рассказывал про все хорошее и дурное, что было во мне с детства до сих пор, рассуждая сам с собою, стараясь разрешить всякое сомнение, приводя в порядок, на сколько умел, все мои понятия, все мои мысли относительно всего.
Когда вся поверхность стола, годная для употребления, становилась исписанной, я читал и перечитывал написанное, размышлял над тем, что уже было обдумано, и наконец решался (часто с сожалением) соскоблить все это стеклом, чтобы снова иметь эту поверхность годной к восприятию моих мыслей.
Затем опять продолжал свою историю, часто замедлялась она отступлениями всякого рода, анализом то того, то этого метафизического пункта, или морального, политического, религиозного, и когда все было исписано, я опять читал и перечитывал, а потом соскабливал.
Не желая иметь никакого повода к препятствию в пересказе самому себе, с самой свободной доверчивостью, фактов, вспоминавшихся мне, и моих мнений, и предвидя возможность чьего-нибудь посещения с целью обыска, я писал на жаргоне, т. е. перестанавливал буквы и делал различные сокращения, к чему я чрезвычайно привык. Такого посещения, однако, не случилось, и никто не замечал, что я так прекрасно провожу мое печальное время. Когда я, бывало, заслышу, что смотритель или другой кто открывает мою дверь, я покрываю столик скатертью и кладу на нее письменные принадлежности и законную тетрадку бумаги.
XXVIII
Также и этой тетрадке посвящал я по несколько часов, а иногда и целый день или целую ночь. Писал я там литературные вещи. В то время мной были написаны: «Ester d’Engaddi» и «Iginia d’asti» и следующие песни, озаглавленные: «Tancreda», «Rosilde», «Elegí e Valafrido», «Adello», сверх того много набросков трагедий и других произведений, и между прочим набросок поэмы «Lega Lombarda», и другой поэмы «Cristoforo Colombo».
Так как допроситься новой тетради, когда старая кончилась, не всегда было легко, то я сначала набрасывал сочинение на столике или на бумажонке, в которой мне приносили сухие винные ягоды или другие фрукты. Иногда я отдавал свой обед одному из секондини, уверяя его, что у меня вовсе нет аппетита, и тем подбивал его подарить мне листок бумаги. Это случалось только в известных случаях, когда столик был весь записан, и я еще не мог решиться соскоблить с него то, что было написано. В таком случае я терпел голод, и хотя тюремный смотритель имел в распоряжении мои деньги, я весь день не просил у него чего-нибудь поесть, чтобы он не заподозрил, что я отдал свой обед, частью потому, чтобы секондино не увидал, что я обманул его, уверяя, что я потерял аппетит. Вечером я поддерживал себя крепким кофе и упрашивал, чтобы его приготовила сьора 5 Цанце 6. Это была дочь смотрителя, она, если могла сделать кофе тайком от матери, делала его чрезвычайно крепким, таким, что при пустом желудке этот кофе причинял мне нечто вроде судорог, правда, не болезненных, которые и заставляли меня бодрствовать всю ночь.