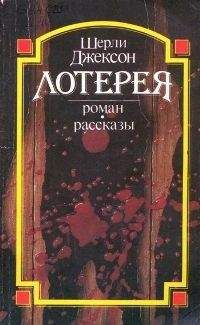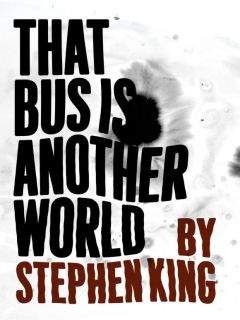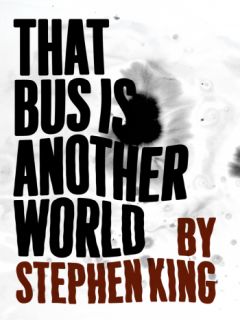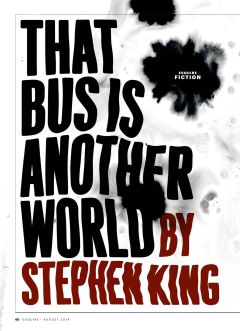Татьяна Соломатина - Мой одесский язык
Через полчаса папа догадался сменить тактику и пообещал, что если я отпущу руку Зелёного Пыр-Пыра, тот для меня обязательно ещё раз споёт. Папа, правда, говорил, что Пыр-Пыр для меня «позвонит», и я ещё очень долго путала слова «петь» и «звонить».
Папа не обманул. Зелёный Пыр-Пыр запел спустя какой-то час. Или два. Всё это время я просидела на полу, не отпуская папу. Папа, кажется, был недоволен, но я всегда умела уговаривать мужчин. Громким криком или – если крик не действовал – слезами.
– Пыр-Пыр! – радостно расхохоталась я, когда он запел.
– Да-да, он зелёный, – согласился папа, хотя я вовсе не это имела в виду.
– Пыр-Пыр! – стукнула я пухлым кулачком по полу.
– Я с тобой совершенно согласен! – на всякий случай заверил папа. Он вообще был человек мягкий. Слишком мягкий. Это не всегда хорошо для мужчины, особенно – для отца и мужа, но тут уж ничего не поделаешь, отцов не выбирают. К тому же я своего любила как неотъемлемую часть окружающего меня мира. Моего мира.
Мама не одобрила моей безумной страсти к Зелёному Пыр-Пыру. Он стоял в коридоре – и там «дуло». Я не видела никакого дула, хотя из разговоров взрослых уже знала, что оно от ружья и круглое (хотя понятия не имела, что такое ружьё и почему оно круглое), но раз мама говорит, что в коридоре дуло, значит в коридоре – дуло! Мама моя – в отличие от папы – была женщиной суровой и властной, ну да бог знает, как парует. Маму я всё равно любила больше, чем папу, – так любят все годовалые дети, это уже потом они научаются врать взрослым, что всех любят одинаково. Мама умела петь песни так, как надо мне, а папа пел так, как привык и умел. Мама умела гладить мне спинку так, чтобы мне было хорошо, а папа просто гладил спинку, и спустя некоторое время его поглаживания начинали раздражать. Правда, я очень любила, когда папа заворачивал меня в стёганое зелёное (на сей раз действительно зелёное) одеяло и носил по квартире. Мама не носила, потому что мама меня «раскормила». Так говорила бабушка. Но маме нравилось меня раскармливать. Я была канонически красивым пупсом, с чистой кожей, толстыми щеками и то хитрыми, то грустными глазами – прирождённый манипулятор. Все во дворе трепали меня по щекам. Когда я гуляла с папой. То есть – он со мной. Когда я гуляла с мамой – меня никто не дёргал за мои толстые персиковые щёки, и это была ещё одна из причин, по которой маму я любила сильнее папы.
Зелёного Пыр-Пыра я любила даже сильнее мамы. Вернее – по-другому. Считается, что маленькие дети не могут испытывать по-взрослому сильных чувств, поэтому скажем, что я любила его горячее родителей. Родителей достаточно любить тепло. Просто знать, что они есть где-то невдалеке. Иногда даже желательно, чтобы их не было видно, тогда можно взять, например, мамину ручку и написать на паркете рассказ. Родители не понимали, что это рассказ, а Пыр-Пыр не только понимал, но и одобрял. Любовь к Зелёному Пыр-Пыру требовала постоянного созерцания объекта, его непрерывного присутствия в моей жизни. Ничего не напоминает?.. Да-да, это была безумная, оглупляющая страсть.
Я быстро вычислила, что если постараться поймать витой шнур и потянуть его на себя, то Зелёный Пыр-Пыр придёт к тебе. Иногда – прямо на голову. Но какая там голова, когда страсть?! Шишки украшают младенцев. Я даже не плакала, когда он приземлялся всем своим тяжёлым корпусом мне на лоб или переносицу. Лишь бы был! Больно бьёт – значит сильно любит!
Как-то папа застал меня любовно агукающей с Пыр-Пыром (на самом деле мы обсуждали что-то очень умное и важное) и чуть не упал в обморок, потому что из носа у меня шла кровь. Зелёный Пыр-Пыр в очередной раз приземлился не совсем туда, куда следовало.
Спустя некоторое время я вычислила, если тянуть и быстро отскакивать – Зелёный Пыр-Пыр упадёт на пол. Я оббила собой все стены коридора, вычисляя наиболее удобную траекторию движения. Мама никак не могла понять, откуда у меня синяки и даже гематомы, и чуть не убила папу, уверявшего её, что пока мы с ним вдвоём – я не плачу, и он понятия не имеет, где я всё это беру. С приходом же мамы я как раз начинала плакать, потому что она уводила меня от Зелёного Пыр-Пыра. Папа молчал о моей любви, это была наша тайна. То есть – моя. Потому что папа, как мне кажется, так и не понял, что я была готова ради Зелёного Пыр-Пыра на всё. На любые муки ради счастья быть с ним, слушать протяжный страдальческий стон, доносящийся из его руки, и вкушать его недолгое пение.
Однажды я не рассчитала силу дёргания за шнур, и Зелёный Пыр-Пыр упал и треснул. Я завыла так, что наверняка было слышно на Ланжероне. Меня даже никто не стал ругать. Схватили и отвезли на Слободку. Я выла всю дорогу, я выла всю Слободку, а потом не помню, потому что мне что-то укололи.
Очнулась я дома и сказала:
– Пыр-Пыр!
Папа принёс мне труп моего возлюбленного.
– Играйся!
Взрослые – идиоты, не правда ли? Предположим, Джульетта выжила. И вот её папа приносит ей труп Ромео и заявляет:
– Играйся!
Никто ничего не мог понять. Мне приносили Зелёного Пыр-Пыра – я выла. Его отбирали – я выла ещё сильнее.
Родители не соображали, что происходит, и потихоньку сходили с ума.
В коридор я больше не выползала. На прекрасном столике – интернированной сущности Зелёного Пыр-Пыра – стояло уродливое чудовище и противно каркало. Всё равно что к отвратительному телу пришить прекрасные чужие ноги. Бессмысленно и некрасиво.
Я не знаю, кто из них первым догадался. Наверное, папа. Он всё-таки немного думающий человек и, как любой немного думающий человек, рано или поздно приходит к очевидному эмпирическим путём.
В общем, Зелёного Пыр-Пыра починили. И водрузили обратно на его законный столик. Хрипотца его пения стала ещё более порочной. Я подросла и немного охладела к нему – естественный процесс. Так проходит страсть земная. Потом выбросили столик, потому что он занимал много места, а обувь ставить было некуда. Купили самую обыкновенную полку для ботинок, сапог, туфель и босоножек, а сверху – с правого краю – водрузили на неё Зелёного Пыр-Пыра, которого уже даже я называла просто телефоном. Вот как «Алёшенька, Витенька, Валерочка…», а потом прохладно и даже чуточку презрительно: «Мужики!» Это как бы признак взрослости и мудрости. Вроде как все бабы дуры, но только не данная конкретная.
Но твоя взрослость и мудрость нужна кому угодно – родителям, друзьям, соседям, толпе, – но только не тебе самой. Поэтому, когда дома никого не было, я называла его Зелёным Пыр-Пыром, гладила его и даже разговаривала с ним. И по нему. С Зелё-ным Пыр-Пыром я прожила бок о бок восемнадцать лет. Я навертела километры его прозрачным, нежным диском. Он знал обо мне столько, что с такими знаниями опасно оставаться в живых. И он умер.
И я даже не знаю точно когда. И понятия не имею, где он похоронен. Скорее всего, его просто выкинули в мусор.
В начале второго курса я съехала от родителей. А им дали новую квартиру. В новой квартире стоял равнодушный туповатый серый – как всё обыкновенное – кнопочный аппарат. Я к нему ничего не испытывала. В моей коммунальной квартире стоял такой раритетный чёрный неубиваемый эбонитовый дед с рогами, что испытывать к нему хоть что-то, кроме благоговейного восхищения и затаённого почтения, было бы нелепо.
Никогда больше я не любила так, как я любила Зелёного Пыр-Пыра. По-другому – сколько угодно. Но так – больше никогда. Никогда больше не прозвучит во вселенной его позывной: двадцать два – восемьдесят девять – восемьдесят два. Код, позволявший мне в любой момент обнаружить огромный мир маленькой одесской квартиры моего детства, навсегда оставшегося в семидесятых-восьмидесятых двадцатого.
Вы будете сильно смеяться, но я сейчас, в конце первого десятилетия двадцать первого века, расплакалась.
Хотя совсем недавно сама сильно смеялась. Буквально накануне. И вот почему…
Вайсбейн под Москвой
Я посылаю отцу в Одессу книги. Свои.
Книг других авторов он, слава богу, за долгую жизнь насобирал полные стены. Посылаю, потому что сперва моих книг в родном городе не было, а теперь, когда я уже «известный российский писатель», – есть, но для него – дорого. Он давно пенсионер и платить семьдесят-девяносто гривен (двести восемьдесят – триста шестьдесят рублей) за источник знаний, а хотя бы и о своей дочери, не слишком готов. Но книг хочется. Во-первых, страшно интересно, во-вторых, перед соседями гордиться – это давно уже не только в Одессе модно и потому в любом городе понятно. В общем, ему приятно – и мне радость. Вот и посылаю.
Приезжаю в почтовое отделение известной на весь мир деревеньки Бородино, потому что основную часть своей «известной российской писательской» жизни провожу вдали от шума городского – просто удобнее писать. И воздух чище. И Брюсов невдалеке жил. И водохранилище под боком. И грибы белые. И земли благодатные. И… Много других положительных «и». Да и обществу спокойнее, когда писатель изолирован. Сидит себе на попе ровно и пишет. По митингам не шляется, на своей гражданской позиции не настаивает, разве что на смородиновых побегах. Одиночество и беллетристика, короче. Красота! Пока новая книга в продажу не поступит. Как только поступит – привет! Меняй резиновые калоши на кожаные сапоги, заплечный мешок – на крокодиловую сумку, ватник – на брендовую тряпку, мой шею, как Наташа Ростова, – и катись в Москву, в Питер, в Нижний Новгород и куда ещё подальше тоже катись.