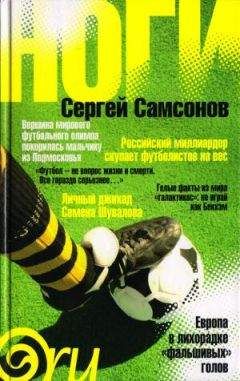Сергей Самсонов - Железная кость
4
— Слушай сюда, второй сталеплавильный! Чтоб после смены в «Металлурга» все как штык! — клич по цехам проносится сквозь гул. — Там в первый, в первый ККЦ ребятам передайте.
— Слышь там, на переднем краю обороны, — собрание в полвосьмого, собственники, поняли?!
— А что такое там опять без объявления? Чего опять правление мутит? Семеро с ложкой эти наши, а?
Кран-великан над головами вопрошающих проносит в пятиэтажной высоте контейнер, полный стального хлама передельного, — дно разверзается, и ломано-перекореженные кости производства мгновенной осыпью срываются в конвертерную глотку.
— Так известно чего: было семеро — теперь еще восьмого позовут. Еще бандоса нового в правление.
— Были двугорбые — теперь какие будем?
Чугунный ковш ползет по рельсам неостановимо и, поравнявшись с печью, медленно крениться начинает, как в Судный день над головами грешного народа, — парад планет на расстоянии протянутой руки; в самой башке твоей вот, кажется, встает переполняющее солнце чугуна — и, повинуясь тяготению, выливается в жрущую масть конвертерной печи. Весь конвертер гудит, раскаленный форсажем, как реактивный истребитель при отрыве. Кислородный поток выдувает из сопел клочья желтого пламени, и расплавленный воздух дрожит, истекая беспримесным ужасом.
— По поводу чего собрание, не слышали? Вот чего нас так вдруг сверхурочно?
— То, то! Дождались, про что вам говорил!.. Хуже, хуже банкротства! Прилетели к нам грачи — пидорасы-москвичи. Комбинат теперь их, и мы все теперь ихние.
— Да откуда такое?!
— Из надежных источников, приближенных к верхам… А Кристинка-бухгалтерша по секрету на ушко шепнула. Ну а кто у начальства со стола не слезает? Это ж уши-локаторы. Все ж при ней меж собой решают.
И шагают, лавиной катятся — толком так и не смывшие въевшейся угольной пыли и копоти — вот так все и идут с подведенными, словно у баб для соблазна, глазами. Весь Дворец металлурга гудит, все подходы забиты, вся площадь: вон молодняк Валеркиной бригады скалит зубы, вон ветераны славы трудовой — в чистых синих спецовках сатиновых, обомшелые, полуседые, с последней жидкой прядкой на голых черепах, встающей на ветру казачьим оселедцем, — насупленно-угрюмые одни, с ухмылкой недоброго предчувствия другие, вон среди них Чугуев-старший с широкоскулой каменной мордой и ртом, пробитым словно штыковой лопатой.
— Это что же выходит? Что ли, наши нас продали, москвичам — комбинат?
— Ну а что, для того и сосали из нас эти акции: «Продавайте давайте правлению».
— Вот своих теперь продали, суки!
— У них нету своих! Только брюхо их собственное!
— Трудовой человек для них мусор. Шлак, который из домны сливают.
— Все, пропал комбинат. С молотка нас теперь москвичи.
— О, о, о!.. Поглядите, выходят, — поднимается гул, уплотняется воздух, прет тугой стеной от рабочей несмети навстречу появившимся членам правления. Первым тащится будто не собственной силой председатель Совета могутовских директоров жирномясо-одышливый Буров, не вертя и не двигая будто не собственной, пересаженной и не прижившейся, наново скверно пришитой ему головой, отрывая с усилием ступни, продвигаясь как будто по разъезженной глине к оставшейся от Первомаев кумачовой трибуне. Следом Саша Чугуев — вот кто все решает, все давно уже поняли на комбинате до последнего чернокотельщика, — молодой и стремительный, гладкий, лощеный, из рекламы про брокеров: галстук, костюм, льдинки тонких очков, телефон портативный с антенной… Ну и свита за ним — Кузьмичев и Лощилин, Васнецов и Остапенко, все. Что-то сделалось с ними, заболели одной на всех, им самим до конца не понятной болезнью, только ясно: само не пройдет, неизвестно чем ле чится, есть ли вот такая вакцина вообще. Морды, морды кривились от необходимости что-то противное, нестерпимо вонючее вот сейчас проглотить, пересилиться, выпить и все-таки вылечиться, всплыть и вынырнуть из-под льдов с разеваемым на полную ртом.
И стоял Буров скорбно, как будто над невидимым гробом с дорогим человеком: не найти такие слова, чтобы высказать… и — как молния преобразила ударом его — сделал шаг и возвысился над рабочей массой один:
— Товарищи, ребята, мужики…
— Заговорил — «товарищи», — в ответ ему прислали по рядам. — Вчера-то господами вроде были.
— Могутовцы! — Настроил голос так, чтоб все увидели у него на лице заигравшие отблески первых мартеновских алтарей комбината. — Мы вас сейчас собрали здесь, чтоб объявить: враждебные тучи сгустились над нашим заводом… Все было как: одной половиной акций до сегодняшнего дня владело государство, второй половиной — мы, правление и рабочий коллектив. И вот те акции, которые принадлежали государству… сорок девять процентов… вот их правительство решило продавать с аукциона… — и сморщился от нестерпимой ненависти, — передает их частному инвестору. Московскому коммерческому банку, «Финвал-инвест» такому, понимаете? В обход нас с вами, сталеваров, не ставя нас в известность вообще! Это Чубайс, — назвал им зло по имени. — Между собой решили все в кремлевских кулуарах. И значит, что? Чья власть теперь на комбинате? Кто будет все решения принимать, от которых зависит, будет жить наш завод или нет? Это мы будем с вами? Или эти вот новые… с горы станут прибыль выкачивать в личный карман? Захотят вообще наш завод распилить и продать по частям? Вот чтобы все, что было в муках, в кровавых корчах родовых построено, пошло бы прахом и бурьяном заросло? Наша гордость! Наша память о дедах! Вот на какие нам тяжелые вопросы предстоит ответить! И вот сейчас нам Александр Анатольевич конкретно растолкует…
И настоящий собственник, держатель рабочих акций, жизней — к микрофону. Скривился так, как будто бы слепило его какое-то болезненное для застекленных глаз мигание сварочного света, но пересилился и, глянув куда-то поверх всех рабочих голов, заговорил с подрагивающим напором:
— Эта сделка по акциям нашего с вами завода, она уже заключена, тут все железно по закону. Но то, что надо с самого начала понимать: они пока еще тут не хозяева, пока еще хозяева мы с вами. По акциям мы с вами имеем большинство: у нас, правления, сорок шесть процентов, и у вас, рабочих, на руках пока что остается пять процентов. Вроде совсем смешная цифра, но решающая. Если мы вместе с вами сложимся и будем голосовать по всем вопросам заодно. Сейчас вот эти москвичи приедут и будут вас просто ушатывать, чтоб вы им продали свои вот эти акции. Хорошие вам деньги будут предлагать — по меркам вашей нищеты сегодняшней хорошие. А по сути копейки. Вам заплатят копейки, а сами тогда продадут наш завод за десятки, за сотни миллионов какому-то иностранному собственнику. Они этим, банкиры, живут — покупают завод за копейки, а потом продают его за настоящую стоимость. Про нас вам будут говорить, что это мы угробили завод, что мозгов у нас нет, а они вот пришли — и на головы ваши прольется просто манна небесная. Ну а сами тайком будут с нами, со мной вот лично торговаться за акции. Лично мне миллион, в мой карман. Я могу и продать, понимаете? Вас продать, как крестьян крепостных, барин — новому барину! И они тогда будут иметь вас и делать с вами, что захотят! Увольнять и с завода выбрасывать тыщами! Тоже все по закону. Ну а я получу от них столько, что хватит и детям, и внукам на красивую жизнь. Улечу на Багамы, в Америку! Но я так не хочу! Не хочу, не могу вас продать, зная, что отдаю свой завод им фактически на разграбление! Но и вас попрошу тоже не продавать — ведь от вас тут, от вас все зависит! Если каждый из вас принесет им в зубах десять штук своих акций, то тогда на заводе хозяева будут они. Завод сейчас в тяжелом положении. У вас к нам накопились, мягко говоря, претензии. Мы понимаем, отдаем отчет, что мы во многом не оправдали вашего доверия. Не имели возможности вовремя вам выплачивать зарплаты за ваш честный труд. Не наладили должных отношений со смежниками. Но чтоб родной завод заведомо банкротить и без работы целый город оставлять — такого у нас в мыслях не было! Я ж ведь лично не с боку припека. Я родился вот тут. Вы все знаете… — И ввернул то, что мог обратить себе перед рабочей массой на пользу, поглядел людям в лица с некрасивым, позорным подражанием теплу: мы одной с вами крови: — У меня на заводе работают старший брат и отец. Честно, многие годы у прокатного стана, вы тут все его знаете. Кто такие Чугуевы, зна… ете… — и споткнулся, нечаянно найдя среди лиц, провалился в отцовский чугуевский взгляд и, не скрыв неудобства, откачнулся, отпрянул от обдавшей его отчуждающей силы родного, мерзлоты неприятия, кроме которой ничего не осталось для сына в глазах у отца — даже горькой усмешки: вона как ты запел, зашаталось как только у тебя под ногами. Про отца сразу вспомнил, про брата. Узнал, сынок, теперь, с какой болью врезается в кадык неправота? Худо стало тебе? А как нам ты?.. Совладал с оборвавшимся, детски дрогнувшим голосом и нажал опять с мобилизующим пылом: — А они тут чужие! Наша земля для них чужая! Так что мы в одной лодке теперь. Из одного только инстинкта самосохранения должны во всем держаться вместе против пришлых! Акций не отдавать! Я даже знаю, больше чем уверен, что по-другому просто вы не сможете! Спасибо за внимание вам и понимание… — И не мигал уже, не морщился, не отводил трусливые, болящие глаза — вымогающе вглядывался в обожженно-немые рабочие лики, нажимал, выжимал солидарность из динасовых огнеупорных закопченных, седых кирпичей и действительно верил в то, что говорил, что его еще могут железные люди услышать, да и даже не верил, а просто другого ему не осталось, уже только и вправду инстинкт разжимал ему челюсти и толкал из него: «Помогите!»