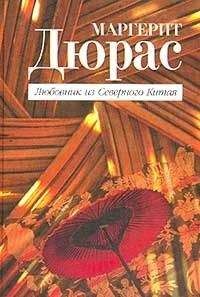Маргерит Дюрас - Любовник

Обзор книги Маргерит Дюрас - Любовник
«Нельзя вызвать желание. Либо оно есть в женщине, либо нет. Его видишь с первого взгляда — или же понимаешь, что его нет и не было. Сразу чувствуется в женщине сексуальная привлекательность или ее отсутствие. И это тоже пришло ко мне еще до познания».
Маргерит Дюрас
Любовник
Брюно Нюиттену
Однажды — я была уже в годах — в холле какого-то учреждения ко мне подошел мужчина. Он представился и сказал: «Вы меня не помните, но я знаю вас всю жизнь. Говорят, вы были красивы в юности, а для меня вы красивее сейчас, чем тогда, мне меньше нравилось ваше лицо юной девушки, чем теперешнее — опустошенное лицо».
Я часто вспоминаю этот образ — я одна еще вижу его и никогда никому о нем не говорила. Так он и стоит передо мной, безмолвный, чарующий. Этот свой образ я люблю больше всех других, восхищаюсь им.
Как быстро в моей жизни все стало слишком поздно. В восемнадцать лет было уже слишком поздно. С восемнадцати до двадцати пяти с моим лицом творилось что-то непонятное. В восемнадцать я постарела. Не знаю, может быть, это со всеми так, я никогда не спрашивала. Кажется, кто-то говорил мне, что время, случается, вдруг поражает людей в самые юные, самые праздничные годы жизни. Я постарела внезапно, грубо. Время подчиняло себе мои черты одну за другой, я видела, как они меняются, как глаза становятся больше, взгляд — печальнее, рот — решительнее, лоб пересекают глубокие морщины. Не могу сказать, чтобы это меня испугало, наоборот, я наблюдала, как стареет мое лицо, будто читала увлекательную книгу. Я знала, всегда знала: в один прекрасный день старение замедлится и возобновится обычный ход вещей. Знакомые, видевшие меня семнадцатилетней во время моей поездки во Францию, были поражены при новой встрече два года спустя, когда мне исполнилось девятнадцать. Вот это новое лицо у меня и осталось. Оно стало моим лицом. Конечно, оно еще постарело, но куда меньше, чем можно было ожидать. Мое лицо иссечено глубокими морщинами, кожа сухая и потрескавшаяся. Оно не обрюзгло, как некоторые лица с тонкими чертами, но порода, из которой оно состоит, разрушилась. У меня разрушенное лицо.
А пока мне пятнадцать с половиной лет.
Я еду на пароме через Меконг.
Этот образ так и стоит у меня перед глазами все время, пока паром пересекает реку.
Мне пятнадцать с половиной лет, и я живу в краю, где нет времен года, где всегда лето — жаркое, тягучее, однообразное: я живу в теплом краю, где нет весны, нет обновления.
Я в государственном пансионе в Сайгоне. В пансионе я только ем и ночую, а учусь во французском лицее. Моя мать, учительница, хочет, чтобы дочь получила среднее образование. Тебе необходимо среднее образование, малышка. Но того, что было хорошо для нее, уже недостаточно для дочки. Сначала среднее образование, а потом конкурс на место преподавательницы математики в лицее. Всегда одна и та же песня, с тех пор, как я пошла в школу. Я никогда и не представляла, что мне удастся избежать математики, я была счастлива — пускай мать хоть на что-то надеется. Я видела, как она день за днем устраивает будущее своих детей и свое собственное. Однако настал день, когда она не могла уже строить грандиозные планы для сыновей, и тогда появились другие проекты, она изобретала новые варианты, но они отвечали все той же цели — заполнить, обеспечить наше будущее. Помню, она говорила о бухгалтерских курсах для младшего брата. И об Универсальной школе — каждый год, с самого детства. Надо наверстать упущенное, говорила мать. Это продолжалось три дня, не больше. Не больше. Потом мы переезжали, и разговоры об Универсальной школе прекращались. На новом месте все начиналось сначала. Мать продержалась десять лет. Ничто не могло ее сломить. Младший брат стал скромным бухгалтером в Сайгоне. Школы Виоле[1] в колониях не было, поэтому старшему брату пришлось отправиться во Францию. Он жил там несколько лет, якобы посещая школу Виоле. Но на самом деле не учился. Я думаю, мать об этом знала — ее не проведешь. Но у нее не было другого выхода — следовало во что бы то ни стало отлучить этого сына от двух других детей. На несколько лет он выпал из семейного круга. А мать в его отсутствие купила концессию. Ужасная затея, но у нас, двух оставшихся детей, больший ужас вызвал бы, наверное, только вечно маячащий под окнами убийца, убийца детей, бандит с большой дороги, подстерегающий жертву в ночи.
Мне часто говорили: ты выросла под слишком жарким солнцем, в этом все дело. Но я не верила. Говорили еще: дети, растущие в нищете, рано начинают задумываться. Нет, и это не совсем так. Я видела в колониях опухших от голода детей, похожих на маленьких старичков, но мы-то — нет, мы не голодали, мы были — белые дети; нас мучил стыд, ибо порой приходилось продавать мебель, но мы не голодали; у нас был бой-слуга, и ели мы — да, надо признаться, иногда мы ели всякую гадость, жесткое, невкусное мясо птиц или даже кайманчиков, но его готовил бой, а иногда мы отказывались есть, могли позволить себе такую роскошь — отказаться от еды. Нет, когда мне было восемнадцать лёт, что-то произошло, и мое лицо разительно изменилось. Должно быть, ночью. Я боялась самой себя, Бога. Днем я боялась не так сильно, и смерть не казалась мне столь устрашающей. Но и днем мысли о смерти не оставляли меня. Я хотела убить, убить старшего брата, да, я хотела его убить, раз в жизни одержать над ним верх и потом смотреть, как он будет умирать. Я должна была отнять у матери предмет ее любви, наказать ее за то, что она любила его столь неистово и напрасно, а главное, я должна была спасти младшего брата, моего малыша, спасти его от гнета чужой жизни, слишком живой жизни старшего, не дававшей младшему жить, спасти от мрака, заслонявшего ему свет, преступить закон, провозглашенный старшим братом и воплощенный в нем, зверский закон, воплощенный в человеке, превращавший каждый миг существования младшего в сплошной ужас, в ужас перед жизнью, И вот однажды ужас добрался до самого сердца и убил мальчика.
Я и раньше много писала о моей семье, но тогда и мать, и братья были еще живы, и я могла только кружить вокруг да около, не доходя до сути.
Истории моей жизни нет. Ее не существует. Никогда не было исходной точки. Нет и жизненного пути, четко прочерченной линии. Только обширные пространства, и хочется, чтобы все поверили, будто там кто-то есть, но это неправда, там нет никого. Я уже описала более или менее подробно историю моей юности, вернее, ничтожно малой ее части, но по ней можно о чем-то догадаться — я имею в виду переправу на пароме через реку. То, что я делаю сейчас, — и похоже на прежнее, и непохоже. Раньше я говорила только о светлых, вернее, озаренных светом периодах моей юности. Сейчас говорю об оставшемся в тени, о скрытом в той же самой юности, открываю вам вещи, чувства, события, о которых раньше умалчивала. Когда я начала писать, моя среда волей-неволей навязывала мне стыдливость. Окружавшие меня люди считали писательский труд все же нравственным занятием. Теперь мне часто кажется, что писать вообще бессмысленно. Иногда я отчетливо понимаю: да, писать бессмысленно, разве только хочется потешить свое тщеславие или просто плыть по течению. Да, наверное, и еще ради того, чему я не подберу названия, быть может, хочется предать огласке собственную жизнь.