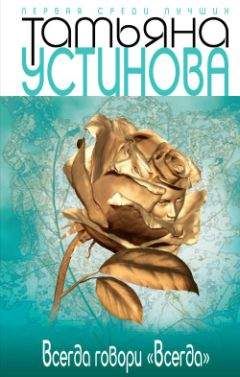Владимир Топорков - Летайте самолётами

Обзор книги Владимир Топорков - Летайте самолётами
Владимир Фёдорович Топорков
Летайте самолётами
Опять потянуло в Светлый. Этот лесной посёлок для меня как чудодейственный курорт, который в последние два года обрёл какую-то магнитную силу, притягивает душу, точно там, в его деревянных домиках, спрятаны невидимые тайники, какие непременно надо отыскать, хотя я отлично понимаю – живут люди в этих двадцати двух домиках своей обычной жизнью с каждодневными хлопотами и заботами, и маленькие радости бытия приходят сюда нечасто.
Вот и эту весну я с трудом дождался солнечных дней, начавших кромсать снега, и с грустной усмешкой поехал в Светлый лечить свои душевные болячки. А может быть, я опять прячусь от судьбы? Что-то не клеится у нас с Лидией, живём как на разных концах пропасти, и трудно протянуть руки друг другу. Почему, отчего всё это – объяснений нет. Просто нет той душевной теплоты, некогда наполнявшей нас до счастья.
Нет, внешне у нас всё по-старому: Лидия утром на кухне даже мурлычет какой-то весёлый мотивчик, громко шлёпает своими невыносимыми сабо, плескается в душе ледяной водой – я знаю, она любит мыться именно такой водой, от которой у меня сводит спину и зубы клацают, потом громко начинает греметь посудой. К этому давным-давно надо привыкнуть, это повторяется каждое утро, может быть, только раньше песни Лидия пела бодрым, каким-то пионерским голоском, а сейчас сбивается на простуженный бас, точно осевший от холодной родниковой влаги. Откровенно говоря, это пение раньше я воспринимал как добрую утреннюю «разминку для голоса», воспринимал с радостью, потом равнодушно, а теперь все эти звуки из кухни раздражают, как надоедливый скрип старого умирающего дерева.
Где-то читал, что наступает такой период в жизни даже самых близких людей, когда их совместное пребывание становится нестерпимым: даже маленький повод, обычная житейская сцена раздражают до боли, до подташнивания. Говорят, космонавтов, которых готовят для длительных полётов, подбирают так, чтоб вот эта раздражительность не стала помехой делу, психологи определяют совместимость характеров, притирают их друг к другу. Нас с Лидией притирать вроде бы не надо было, сами нашли друг друга несколько лет назад, и думалось, что безоблачная и счастливая поначалу жизнь будет нескончаемой.
Теперь я понимаю, что, наверное, мы ошиблись, и если бы не сын Славка, черноглазый малыш, так похожий на Лидию, то трещины наших взаимоотношений стали бы глубокими, как горная пропасть, и перескочить их не хватило бы никаких сил. Он, этот маленький человечек, воркующий, как лесная горлинка, держит нас вместе, защищает нашу зыбкую, как болотина, жизнь, пытаясь склеить в цельное то, что несколько лет ходуном заходило под ногами…
Иногда я задумываюсь, откуда у посёлка такое название, и прихожу к выводу, что кто-то дал это имя в пику собственной грусти, однажды поглотившей этого «кто-то».
С южной стороны подходит к посёлку еловый лес. Замшелые великаны богатырским строем теснят его к реке и даже в солнечный день кажутся мрачными, как снеговая туча. От этого подступающего леса посёлок защищается, как от неприятеля: перед краем его, на песчаной опушке, разбросаны припавшие на угол баньки, почерневшие от времени до дегтярной черноты сараи, тёсовые крыши которых отливают зеленью и бурым налётом мха, высятся холмики погребцов, затянувшиеся редкой седой полынью.
С севера к посёлку подступает река, точнее, даже не река, а старица, широченный плёс, подёрнутый ряской и листьями кувшинок такой необычайной величины, что кажется: это зелёные испанские сомбреро окунуты в стоячую воду.
Когда-то давным-давно ушла река в сторону, в песчанике проложила себе путь попроще, напрямую, без этого хомута, который закладывается около посёлка, и теперь только в половодье в старицу заходит свежая вода, вымывает затхлый запах стоячей гнили. С этим потоком в старицу устремляется ещё не стряхнувшая зимнюю сонливость рыба – длинные прогонистые щуки, стремительные как торпеды, морщат воду, всколачивают пену на мелководье.
За лесной чащобой, километрах в десяти от посёлка, разместился аэродром нашего областного центра и деловитым громом сотрясает округу, наполняя её жизнью.
Ледоходной весной в Светлом царит необычное, точно в праздник, оживление. Все его жители вечерами выходят к разлившейся реке, выстраиваются на берегу, словно отправляя какой-то таинственный обряд, долго наблюдают молча, как ворочаются в свинцовой пучине льдины, которые они почему-то именуют икрами. Потом самые молодые: Антон Зубарь, огромного роста мужик с лицом тёмным, как весенняя еловая чаща, или Гришка Серёгин, энергичный тракторист лесхоза, который, кажется, насквозь пропитался соляркой (бабы толкают Гришку в спину, гонят от себя подальше), – так вот они не выдерживают, ошалелыми прыжками бегут к домам, где с осенних времён лежат посеревшими днищами вверх лодки, несут их к берегу. Но, пожалуй, быстрее всех управляется с этой работой Андрей Семёнович Разин, по-уличному Разиня, бывший лесник.
Дядя Андрей – худосочный, комариной фигуры мужичонка с вытянутым злым лицом и птичьим носом. На лице, кажется, навсегда приклеилась гримаса, передёрнула, как от боли, тонкие губы, ко лбу присохли седые завитушки волос. Ещё снег киснет на огородах, а Разиня уже без шапки, в охотничьих сапогах, завёрнутых чуть ниже колен, в ватнике с длинными рукавами, отчего фигура кажется ещё москлявее, несуразней. К дому своему он направляется бегом, один взваливает крашеную лодку на спину и с прикряхтыванием волочит её к берегу. Затем он ещё раз бежит к дому, под мышкой несёт заготовленные вентери с острыми ольховыми копьями, длинную лопату, весло и под одобрительный гомон сограждан посёлка толкает лодку на волну, на ходу прыгает в посудину. Зубарь и Гришка, запыхавшиеся, сбрасывают с плеч свою плоскодонку, чертыхаются, глядя вслед Разине. Потом и они, загрузив лодку вентерями, принимаются яростно отгребать в два весла от берега, негодующе посматривая на дядю Андрея, который уже метров на сто оторвался от них, правит лодку к узкой потеклине – по ней шершавой гладью стремится в старицу поток с реки. Здесь и поставит он свои вентери-двухкрылки, перегораживая путь щукам в старицу, а Гришке и Зубарю придётся грести дальше, к промоине, тоже рыбному месту, но не такому богатому, как на протоке.
Люди продолжают стоять на берегу, захваченные соревнованием двух лодок, и, когда убеждаются, что опять Разиня захватил самое лучшее место, начинают морщиться, как от зубной боли. Мне непонятно такое отношение к дяде Андрею его соседей: ведь завтра утром он, как и Зубарь, понесёт по домам улов, и тонкий аромат аппетитной ухи будет долго плыть над посёлком.
* * *На другое утро я просыпаюсь от громкого стука в дверь. Темнота ещё не развеялась в комнате, кажется, слоями висит, в окнах качаются смутные тени ёлок, ещё не высвеченных солнцем. Я бегу открывать запорку и на пороге сталкиваюсь с дядей Андреем. Он, как и вчера, без шапки, и седые кудряшки всклокочены ветром, как копна сена, ватник потемнел от воды, на охотничьих сапогах засох белёсый песок. В руках Разиня держит огромную пятнистую щуку. Видать, довольный уловом, дядя Андрей наконец разгладил свою гримасу, оголил ровные белые зубы.
– Долго спишь, хозяин, – говорит он с незлым упрёком и шмякает щуку на стол. Рыбина, ещё живая, жадно хватает воздух жабрами, шевелит плавниками. Оправдываться мне нет нужды: я в самом деле не люблю ранних подъёмов. Даже когда работаю – встаю за полчаса до службы, иногда не хватает времени на завтрак, а теперь сам Бог повелел подниматься поздно, – что ни говори, отпуск. Впрочем, и по деревенским меркам вставать ещё рано – нет и шести часов, радио молчит. Это достижение цивилизации достигло лесного посёлка, а вот электричества ещё нет, хотя щедрое на посул начальство давно заверяет, что Светлый действительно станет светлым, дайте только срок.
Я начинаю благодарить старика, приглашаю дядю Андрея посидеть, но он отмахивается, шмыгает птичьим носом, ребром ладони проводит по горлу – некогда.
И, уже повернувшись к двери, предлагает:
– Давай сегодня вечером на уток махнём. Северная пошла, на реке аж рябит от дичи. Жди, часам к шести зайду…
Он и точно появляется к шести часам, с ружьём на плечах, всё в тех же сапогах, но уже завёрнутых до паха, моей тётке Марье картинно кланяется. Ружьё у дяди Андрея с ржавыми стволами, вытертой самодельной ложей, которую мы с ним стругали в прошлом году из берёзового корневища.
Опять болезненная гримаса перекосила лицо старого лесника, а тут ещё подлила масла в огонь тётка Марья:
– Ты бы пожалел дичь, Андрей! Чай, за столько вёрст к нам летела, чтоб голову сложить, а? Да и какая в ней сейчас корысть – одни струпья, изголодалась, поди, птица.
Разиня начинает нервно потирать руки с длинными, синими от вспухших суставов пальцами, мрачнеет лицом.