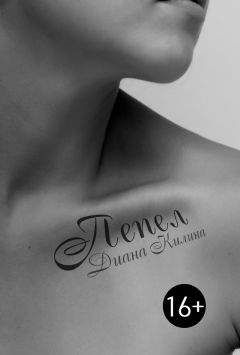Зоран Ковачевский - Рассказы македонских писателей
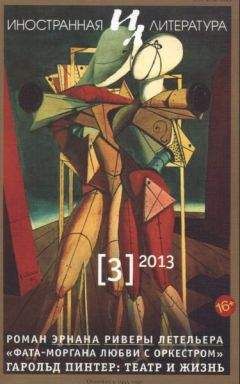
Обзор книги Зоран Ковачевский - Рассказы македонских писателей
Рассказы македонских писателей
Вступление. Свет и тени новой литературной реальности
В последние десятилетия XX века поэзия перестала быть ведущим жанром в современной македонской литературе. Ее оттеснили в тень прозаики, романисты и рассказчики. После распада бывшего югославского содружества, во время так называемого переходного периода, македонская литература подверглась и другим существенным изменениям, затронувшим не только ее. Она разделила судьбу литератур Восточной и Юго-Восточной Европы, которые после падения Берлинской стены и распада социалистических стран и систем, еще какое-то время жили в убеждении, что литература — это нечто очень важное, что с ее помощью можно выразить что-то очень насущное, но в конце концов были вынуждены отбросить подобные иллюзии. И вот, после того как были сняты все запреты и отменены табуированные темы, после того как эти литературы захлестнула волна «постмодернистского релятивизма», писатели будто утратили свои внутренние направляющие, будто остались без сильных импульсов и побуждений, будто лишили себя возможности показывать и оценивать новую реальность, которая их окружала. У писателей полностью исчезло то плодотворное противостояние, которое во все времена было и остается важной и достойной одобрения отличительной чертой любого истинного художника слова. Несмотря на мощную экспансию новых книг и публикаций, определяющей стала ситуация: «Для литературы не существует больше никаких запретов, но от нее больше и ничего не зависит», как в начале этого периода отметил знаменитый немецкий поэт Ханс Магнус Энценсбергер. Именно это, по моему убеждению, на данный момент наиболее характерно для новой культурной и литературной реальности в Македонии.
Для максимальной объективности следует сказать, что вопреки в общем-то совершенно неблагоприятному нравственному и творческому климату, в области художественной прозы мы можем назвать несколько авторов, каждый из которых по-своему сопротивляется этой ситуации и вызывает интерес как у критиков, так и у новых читателей. Значит, в современной македонский литературе есть творцы, обладающие неугасшей творческой силой, острой наблюдательностью и живым критическим осознанием того, что происходит сегодня вокруг них и во всем мире.
Авторы, которых читателю «Иностранной литературы» представляет замечательный переводчик и славист Ольга Панькина, не принадлежат к какой-либо конкретной объединяющей всех группе. Если этих авторов, тем не менее, что-то и связывает, то прежде всего — их независимость и бескомпромиссность, их последовательный нонконформизм, их готовность безбоязненно рассматривать важные экзистенциальные и нравственные вопросы времени и среды, к которым они принадлежат. В этом отношении дальше других ушел, без сомнения, Зоран Ковачевский, тонкий и внимательный рассказчик, который всю свою жизнь и все свое творчество посвятил Охриду и Охридскому краю, создавая собственный, весьма своеобразный мир. Ковачевский соединяет в своей прозе опыт латиноамериканских «магических реалистов» с поэтикой лауреата Нобелевской премии югославского писателя Иво Андрича, не теряя при этом достоверности своей прозы. В другой перспективе, хотя и в похожих условиях (речь идет о городе Струга и Стружском крае), Димитрие Дурацовский показывает маленький провинциальный мир людей через необычные человеческие судьбы. Свои странные, часто сомнамбулические тексты он создает с несомненной примесью сюрреалистического и борхесовского творческого опыта, оставаясь тем не менее в рамках актуальной постмодернистской эстетики. Драги Михайловский более умерен в этом отношении, он автор нескольких романов и сборников рассказов, в которых разрабатывает «исторический метаязык» с акцентом на пародию, иронию и элементы гротеска. Очень активны в последние годы и самые молодые македонские рассказчики, которые, как и многие другие модернисты и постмодернисты на Балканах и во всем мире, стремятся к созданию очень необычного неоавангардизма в нашей современной прозе.
Милан Гюрчинов.
Зоран Ковачевский
Имер
В последний год жизни Имера очень волновало, любят ли его американцы.
Американцы снимали фильмы про ковбоев, у них в стране проходили Олимпийские игры, там производили лучшие джинсы, и их армия была самой сильной в мире. Заиметь среди американцев приятелей, которые бы полюбили его и подружились с ним, было сокровенным желанием Имера.
Американцы приезжали в город на белых джипах, а он стоял на тротуаре, дружески их приветствуя.
— Если бы над нашим городом загудели их бомбардировщики, счастливее меня не было бы человека на свете! — сказал Имер знакомым грузчикам, сидевшим на невысокой каменной ограде, окружавшей городской платан. Дерево над ними безвольно покачивало ветвями, измученное летней жарой и пылью, смешанной с парами бензина, садившейся на его широкие листья, равнодушное к человеческим надеждам и к чудесам, о которых веками рассказывали люди, когда летними вечерами, устав от работы в течение дня, сидели под ним, наслаждаясь прохладой.
Платан был старше всех. Старше любого из людей, снующих по улочкам, расходившимся от него на четыре стороны, древнее всех зданий из камня или глины, выросших на холме над ним. Он был столпом и летописцем, поставленным Богом на въезде в город, мимо которого испокон века вели все дороги и проходили путники, которых заносила сюда судьба.
Имер теперь любил американцев. Каждый день по телевизору главные новости были про них, их фильмы показывали в городском кинотеатре, их делегации встречали с высшими почестями в столице его страны. Красная дорожка на асфальте, вдоль нее выстроена президентская гвардия с винтовками на плечах и комитскими шапками[1] на головах, на флагштоках развевающиеся знамена обеих стран… Вид флага супердержавы, реющего на теплом ветру, наполнял его умилением.
— Смотрите, — сказал Имер двум носильщикам, коротавшим остаток дня под тысячелетним платаном. — На этом же месте сидели наши отцы и деды, но никому из них не выпадало такое счастье, чтобы отпечатки его ног смешивались со следами обуви американских солдат. Мой дед любил все турецкое, я помню, как я сидел у него на коленях, а он рассказывал мне о султане Абдул Гамиде и о Джеладин-бее.
Один из носильщиков, высокий, в темном костюме и застегнутой доверху белой рубашке, сидел, положив ноги на деревянную тележку, стоявшую перед ним, и глядел на большой универмаг на противоположной стороне площади с пустыми стеклянными витринами и замком на входной двери.
— Дались тебе эти американцы, — сказал он собеседнику, у которого в тот момент тоже не было работы, — они же ничего не покупают. От них прок только для тех, кто рестораны держат, а не для нас, носильщиков.
Имер расстроился. Имер хотел, чтобы его любовь люди одобряли и отвечали тем же. Когда он был моложе и влюблялся в иностранных певиц, выступавших на террасе «Ориента», то сильно страдал, если кто-то из его приятелей, в компании которых он выпивал, говорил, что ему не нравится избранница его сердца. Имер опускал голову на белую скатерть и плакал навзрыд. Слезы текли у него между пальцами, от них на полотне появлялось мокрое пятно.
— Неужели такое возможно, — говорил он, наплакавшись, — что ваше сердце осталось глухо к ее песне?
Теперь его постаревшее сердце любит американцев. А они довольно редко приезжают в его город, еще реже заходят в ресторан «Ориент», чтобы посидеть там, поесть шашлыков и побить посуду под влиянием душещипательных песен гастролирующих певичек. Они, цивилизованные, в своей желтоватой форме, выбритые и чистые, хотят других забав, не таких, какие предлагает восточный ресторан рядом с платаном. Говорили, что они ходят в какие-то бары на берегу озера, в которых под необычную музыку раздеваются нимфы, появляющиеся из воды. У Имера не было ни машины, ни денег, чтобы поехать в места, про которые рассказывали, а в модные бары на побережье, таких как он, оборванных и грязных, обычно не пускают. Раньше, когда он был моложе, он ездил на велосипеде, но теперь он его забросил. Самым дальним местом, куда в летнюю жару могли добрести его босые ноги, были гостиница Радича и пристань, где привязывали лодки.
— Для цыгана, — сказал ему Рамче, — нет другого места, куда бы он мог прийти, кроме его собственного дома, рынка и платана.
В Имере вновь проснулось старое упрямство. Целый день он ничего не пил, кроме воды из общественных фонтанчиков, кишки у него бурчали после пирога с сыром, который он съел в пирожковой «Паскалия», от голода он стал невесомым, еще больше поверил в свою мечту, был готов биться и умереть, чтобы доказать ее достижимость. Теперь он обиделся на последнее высказывание своего собеседника, ему было больно от ограниченности и глупости приятеля, который пытался их жизненное пространство свести к тем пятистам метров, которые отделяли Воску от платана. Воска — это был район, где жили цыгане в низеньких домиках из глины по обе стороны дороги на Стругу, на ее гранитных блоках, покрытых пылью, голопузые и босоногие дети весь день лепили куличики из грязи, а потом бросали их на дорогу, чтобы раздался звук, такой как при взрыве.