Владимир Костин - Тоска зеленая
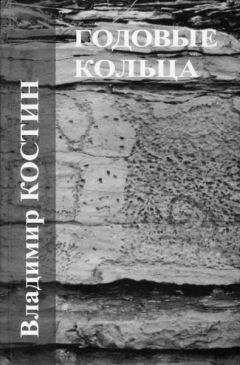
Обзор книги Владимир Костин - Тоска зеленая
Владимир Костин
Тоска зеленая
Юрочка Обносков, молодой человек двадцати трех неполных лет, все еще ушибленный своей фамилией, безо всякой необходимости задерживался на работе. Он окончил университет, был оставлен на кафедре, и вот сухой и оттого безобразно пыльной весной он сидел на кафедре и мыслил о том, что завершается уже первый год его работы — работы, с которой однажды его вынесут вперед ногами, чего не миновал ни один из его старших коллег. «И все они считают, что так и должно быть, что просидеть всю жизнь на одном месте есть высший удел для нашего брата в этой тоскливой, сволочной жизни», — разочарованно вздыхал Юрочка. Ему не захотелось жить по прейскуранту 1978 года.
Над ним сгустились трагедийные тучи. Он понимал, что настигли его наконец новые намерения и настроения, но совсем не те, воодушевляющие, которых он жаждал и чаял. Идешь по темному, сырому лабиринту, идешь и веришь: скоро, за одним из поворотов — солнце, свет и накрытый стол. Выходишь — а тебя встречает пулеметная очередь. И кончена молодая жизнь.
Сидел он, конечно, за столом заведующего и курил, перебирая документы и прочие бумаги в его папке. В списке текущих забот учителя он наткнулся на следующий пункт: «6. Обноскову сделать больно за пьяные речи на банкете. С его худобой и психопатией пить наперстками и т. д.».
Юрочка не догадывался, что мудрый заведующий нарочно забывает на столе свою папку, зная, что редкий из подчиненных побрезгует засунуть в нее нос. Пусть подчиненные как-то сверяют свою работу и грацию с руководящим курсом и не питают младенческих иллюзий о тайне вкладов. Но сейчас Юрочка остался равнодушен к полученным сведениям и не наморщил чела своего. Ему было все равно.
Консультация закончилась. Давно ушла последняя студентка, по ошибке унеся с собой его любимую ручку. На кафедре — комнате, уставленной брусками облезлых фанерных шкафов — горел тусклый свет: из пяти лампочек в люстре уцелели две. Душно, из коридора крадется мертвый шелест. На этаже ни души. Юрочка встал, снял со стены портрет Льва Толстого и положил его плашмя на книжный шкаф. Потом разулся и уселся, закинув ноги на стол.
Это не могло никого заочно оскорбить, потому что ноги были очень худые и не могли быть инструментом вызова.
В папке лежала еще книжка в бумажной обложке. Какие-то краеведческие очерки местного писателя. Юрочка полистал, почитал из нее и с удовлетворением убедился, что книжка скучна, в ней не отточены ни факты, ни мысли. Зато были щедро представлены пространные разговоры старинных россиян на манер афишек 1812 года. О чем автор едва ли знал.
Четыре века назад по призыву туземного князя сюда пришли казаки и поставили острог. Казаки выглядели комсомольцами, а их воеводы — коммунистами, князь обратился дальновидным красным аксакалом, а стройка — Магниткой или Братской ГЭС. Когда казаки непонятно как нашли в тайге нефть, проницательно связав с ней великое будущее края, они принялись мечтать о Городе Солнца.
«Али не жаждется тебе, Истигней, чтобы людишки расправили трудовые плеча свои, царя скинули и зажили сообча?»
Юрочка возненавидел прикормившегося автора: ну, буфетчик обкомовский!
На авантитуле имелся автограф, обращенный к заведующему: «Дорогому Ивану Сергеевичу с пожеланием прочитать сей опус и вынести свой суровый приговор. С приветом Э. Сохатых. 13 апреля 1978 года.»
— Сейчас! — язвительно сказал Обносков. — Разбежался, Сохатых!
Читать местных авторов на кафедре считалось занятием непристойным. И не без оснований.
Вдруг Юрочка пошевелил бровями и, не сразу сообразив, зачем, потянулся за телефонным справочником.
Что толку было торопиться домой, в постылое общежитие? Кругом дикий мир, на улице несет песок и мусор, пятничные счастливые потомки казаков просто обожают приставать к субтильным очкарикам. Тогда люди помоложе вообще любили приставать друг к другу — это было для многих единственным развлечением.
А в магазине остался черствый хлеб, а на полу там лужи прозрачного молока, усеянные осколками бутылок — свидетельства суровых сражений за жизнь.
А этот длинный коридор в общежитии? Юрочка жил в самом его конце. Пока дойдешь до своей двери под господствующий грохот унитазов, ловя запахи из чужих кастрюль и сковородок, нестерпимо захочешь напиться, а напиться не на что и купить спиртное негде.
И Юрочка набрал телефонный номер.
— Вечер добрый, — сказал он в трубку брежневским голосом, — это Эдуард Сохатых? С партийным приветом к вам член с 1939 года, ветеран войны и труда Барков Иван Степанович. Инструментальный завод имени Вахрушева. Хочу вот это я дак поговорить с вами, товарищ писатель, о вашей книге «Заря над тайгой». Скажем так. Крепкая книга, ядреная… Но есть вопросы.
— Гм, гм, здравствуйте, Иван Степанович, — ответил ему застенчивый тонкий голос, — очень рад. Очень. Я открыт критике. Товарищеской, марксистко-ленинской, как я понимаю? Да, да…
Юрочка не мог знать, что подобный звонок раздался в квартире Сохатых впервые за всю его плодотворную творческую биографию, и ликующий Сохатых досадует на себя сейчас за то, что встретил его в одних трусах и с фурункулом на шее.
— Хорошо вы рассказали об основании города, — сказал Обносков, — интернационализм раскрыт убедительно, сознательность казачья. А позвольте вам сказать: как же это с киргизской ханшей тогда вышло? Нехорошо! Некрасиво!
— Нехорошо, — согласился Сохатых, — но это издержки вольницы. Век такой, новое место. Начальство новое из реакционеров. А потом…
— А так хорошо, — милостиво перебил Юрочка, — вы можете гордиться!
— Спасибо, — пролепетал Сохатых, — вы знаете, мы, писатели, не избалованы. Нечасто доводится услышать такое доброе и, главное, компетентное мнение.
Юрочка уже притомился.
— Нехай, нехай, добре, — сказал он басом, — то гарно. Бывайте ласковы.
— Но мы же не поговори…
Юрочка положил трубку.
Не смешно, нет. Сам ты Истигней.
Он просидел на кафедре еще полчаса, но больше ничего не придумал. В это время Сохатых декламировал жене о том, что сознательный пролетарий исходно понимает литературу глубже, чем завистливые коллеги, погрязшие в мелкотемье. Надо будет рассказать об этом на собрании, сказала жена, пусть подавятся. Могут не поверить, сволочи, засомневался Сохатых.
Юрочка шел сумрачным городом, разочарованный карьерой. Ему было обидно, что при этом он чувствовал себя виноватым, предателем. За что, перед кем? Может быть, всякий, рожденный в стране СССР, тем уж виноват, что хочется ей кушать?
Позавчера он шел с работы, задумавшись об одной студентке. И не заметил, подходя к остановке, что люди, хотя их было немало, как-то странно освободили ее середину, теснясь по периметру.
Естественно, он машинально пошел на свободное место — и натолкнулся там на пожилую женщину. Очки. Пальто, трико и кеды. Растрепанная голова.
— Что же ты со мной сделал, негодяй? — сказала она ему как доброму знакомому. Юрочка смотрел на нее, как филин — он видел ее впервые.
Через три секунды он понял: сумасшедшая. Но уже успел почувствовать себя разоблаченным, униженным грешником и сильно струхнуть.
— Вы мне в матери годитесь, — брякнул он наобум, оживляя зрителей, — отстаньте, пожалуйста.
— Вот именно, развратник! — воскликнула безумная и попыталась ухватить его за рукав. Пришлось бежать. Иные из толпы могли поверить ей, и в этом был смысл. А что он, педагог, хотел сделать с той студенткой?
В общежитии ему сказали, что это была бывшая жена доцента Кибальникова. Она часто стережет его на университетской остановке, коротая время в откровенных рассказах о нем всем подряд, включая его учеников. Она печатала ему все его статьи, а он ушел к другой.
Тайна карьеры вышла вся, впереди бесцветная гимнастика буден. Товарищи — предадут, женщины — не оценят. Мачу-Пикчу он не увидит никогда, и его засосет стакан. Будут одни статьи. Никому не нужные. Они и будут жизнью, пока не придет черед последней.
В этом году на факультете умирали часто, и Юрочка преждевременно познал пресную сердцевину своего высокого ремесла.
Когда умер Никольский, Стеценко скорбно сказал над гробом: — Ушел человек. Осиротели близкие. Осталась недописанной статья…
И развивал про статьи. Юрочку покоробила эта «статья». Но, наверное, Стеценко волновался. Впрочем, что еще можно было говорить о склочнике Никольском?
Потом умер добродушный Стеценко, и Абросимов сказал над гробом: — Ушел человек, осиротели родные. В наших рядах невосполнимая брешь. Осталась недописанной статья…
Значит, статья превыше пирамид. И ведь искренне говорили.
Какого черта на главном месте статья, сказал себе Юрочка, эка страсть, что недописана! Когда умираешь — всегда недоживаешь. Как будто смерть бывает правильной, дожидаясь промежутков между статьями. Что такое статья перед смертью?




