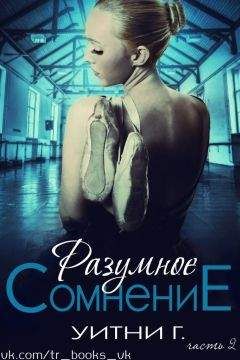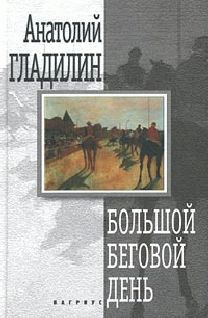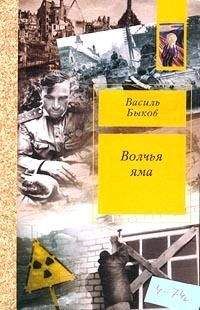Альмудена Грандес - Песня над балконами
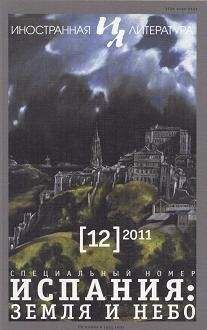
Обзор книги Альмудена Грандес - Песня над балконами
Альмудена Грандес. Песня над балконами
Но вспомни, если духом пал:
С тобою рядом тот,
Чей взгляд тебя так долго ждал,
Кто неустанно ждет.
Луис Гарсиа Монгеро «Раздельные комнаты»[1].
1
Канарейка в птичьей клетке, на пугале — ботинки в сетку, такая в те годы ходила присказка, но еще большую жуть, чем эта бурая вязь кожаных тесемочек, избороздившая ему подъемы ступней, наводил грубый перестук каблуков — тук, тук, тук — у меня за спиной утром и вечером, по дороге из дома в школу, из школы домой и обратно, по четыре раза на дню, изо дня в день. Порой, переходя дорогу на красный свет, чтобы хоть как-то помешать преследователю, я спрашивала себя, зачем так упорно он обувает на занятия эти выходные ботинки, всегда безупречные, надраенные до блеска, неважно, что полопались швы. Ни к чему были ему каблуки, нелепое дополнение к его вечным спортивным штанам из синей синтетики, потому как парень был очень высокого роста, по одного этого недостаточно, чтобы захотелось проникнуть в тайну его заурядного бытия.
Где рев и слезы, там ребенок, как говорится, где пугало, там и его приёмник, — и, разумеется, он не расставался с радиоприемником, прижатым к уху и включенным на полную мощь, пока он дожидался меня в засаде за углом моего дома. Иной раз, вечерами, старинный, жалобный мотив песни, которая так ему нравилась, подсказывал мне, что он рядом, раньше даже, чем тень его фигуры, узкой в кости и какой-то грустной, рослой и в то же время на удивление беззащитной. Затем каблуки — тук, тук, тук — встревали, как лишняя нота, в приторное псалмопение этой обреченной и жестокой любви, сопровождавшее нас, ты поймешь однажды, мне уже не важно, вверх по Сан-Бернардо, вниз по Сан-Бернардо, и всему коне-е-ец, точно несбыточное пророчество.
— Как ты вообще его терпишь, — корила меня кузина Анхелес, которая уже успела добиться, чтобы друзья звали ее Ангелиной, очень изысканно, как ей казалось, на мадридский манер, тогда как дома, как бы ее это ни бесило, она оставалась Анхелитой еще многие годы. — Не хватало только, чтобы этот субъект слушал «Модулей».
Я молча соглашалась и иногда, почти безотчетно, напевала эту пошлость, не разжимая губ, настанет день и час, ты от меня уйдешь, ведь родилась я, в отличие от Анхелиты, не в пригороде Хаэна, а в образцовой клинике старого Мадрида, в роддоме Милагроса, в самом сердце Чамбери, и потому могла позволить себе пристрастие к фольклору, в чем ни за что бы не решилась признаться вслух. И тем не менее в простоте своей Анхелита была права. Гопник — такое мои братья дали ему прозвище, обязанное не столько его внешности, сколько твердости его эстетических отклонений, — то еще пугало огородное. Точка.
Нам так и не пришлось перемолвиться словом, я даже не знала, как его зовут — наверняка Абенсий или Акилино, по смелому предположению кузины, или вообще Дионисий, точно тебе говорю, — да и не восстановить уже в памяти миг, когда я впервые ощутила на своих плечах тяжесть его взгляда, твердого, непроницаемого, словно поверхность волшебного зеркала, мутного и горячего, глядясь в которое я становилась тринадцатилетней, затем четырнадцатилетней, затем пятнадцатилетней и шестнадцатилетней. Парень не из нашего квартала, это я знала, как и то, что он жил на «Вальдеаседерас», это такая станция метро, очень далеко от нас, где-то в районе Тетуан. Притом, слава о ней достигала и наших пределов, примиряя мою мать с тем, что вся ее жизнь протекла на непримечательной улице Сан-Димас.
— Погляди-ка, — указывала она пальцем вдаль с балкона, заставляя гостя выворачивать шею под невозможным углом. — Вон там башня Союза и Феникса. Да ведь мы почти что на Гран-Виа! Я же тебе говорила…
Говорить она могла сколько влезет, но, разумеется, жили мы не на Гран-Виа, а в маленьком старинном квартале: кругом монастыри и дома без портье, без лифта, без центрального отопления — и с вековой историей за плечами, — пятачок в центре Мадрида, для одних это Новисиадо, для других — Маласаниа, Сан-Бернардо, Конде-Дуке, а для таксистов и вовсе Агуэйес — ему до сих пор не дали названия. Здесь вырос мой отец, здесь выросла моя мать, здесь они познакомились, приглянулись друг другу и начали встречаться. Здесь же, в церкви Святого Иакова, они повенчались и сняли квартиру в большом и ветхом доме с кровлей, провисшей под покрытием из старой, сухой щепы, и полом в мелкую красно-белую шашечку, что ходил ходуном под ногами, в доме, которого я так и не узнала, потому как мамой овладела горячка ремонта, прежде чем я покорилась власти рассудка. Разделенный на равно несуразные части, коридор оставался бесконечно длинным и тесным, а спальня моя, за которой сохранилось гордое название кабинета, была на самом деле каморкой без окон, но при всем при том богатых и бедных еще никто не отменял. Не хватало опять поругаться, для полного счастья.
— Вальдеаседерас? — мать выразительно насупила бровь. — Ха! Это ужасный квартал, считай, одни лачуги.
— Вальде… как бишь его? — как обычно, не удержалась бабушка. — Это не в Мадриде.
— Это как это, бабушка? Там ведь есть даже метро и вообще.
— Ну и что, что метро! Само собой, там должно быть метро, поезда теперь ходят, наверное, до Толедо… Тоже мне!
Послушать сеньору Камилу, как неизменно обращались к бабушке жители квартала, границы Мадрида по сей день пролегают строго в пределах города ее юности, разве что с поправкой на Вентас, и то потому, что там площадь быков, а все, что дальше, дескать, что твоя Сеговия. С ней лучше было не спорить: при первой возможности она норовила тебе рассказать, как ее единогласно избрали «Мисс Чамбери-1932», как через грудь ей повязали зеленую ленту с вышитыми на ней золотыми буквами, как тем же вечером она с этой лентой зашла в таверну своего отца и про то, как мой прадедушка залепил ей пощечину — за Мисс — и подтек на щеке не рассасывался неделю, так что я промолчала и никогда больше не упоминала об этом неловком и тайно влюбленном призраке, который, казалось, живет лишь затем, чтобы на меня смотреть. Время и булочница Кончита, действуя сообща, воздали мне за терпение, и мне удалось кое-что выяснить. Гопник был внук сеньоры Фиделы, неотесанной, нахрапистой старухи, отличавшейся дурным нравом и еще более скверным языком; она жила на углу Монсеррат и Акуэрдо, в двух шагах от моего дома. Ее муж, незавидный, зато покладистый мужичонка, имени которого, конечно, не знал никто, — в моем квартале привилегией имени пользовались одни женщины: так, о сеньоре Таком-то говорили не иначе, как о муже сеньоры Такой-то, — всю жизнь прослужил помощником учителя в школе Кардинала Сиснероса и добился для этого школяра места на его отделении на улице Рейес, несообразно далеко от дома. Я же, за неимением лучшего, училась в школе Лопе де Вега, и вот, когда я была уже готова оценить по достоинству эти глаза, в которых, возможно, моя жизнь обрела бы смысл, Анхелита вдруг сделала поистине ошеломляющее открытие, и подвиг этот довершил ее превращение в Ангелину.
В миг, когда я переступила порог «Топаза», мне показалось, что я очутилась в другом мире. Эта шикарная дискотека — всюду, даже в туалетах, затемненные окна, в коридорах — высокие зеркала в золоченых рамах, диваны, широкие, как супружеская постель, полумрак комнат и, главное, официанты в смокингах: последнее, признаюсь, я в те годы считала высшим пилотажем изящного вкуса, — она не имела ничего общего с дешевыми барами района Сентро, которые, будто вехи крестного пути, отмечали паломническую череду моих поздних пятничных и субботних часов. Конечно, у нас с Ангелиной тоже было не так много общего с отборными стадами Чамартин-де-ла-Роса, что паслись в этом заведении. Никогда не забуду этой страшной неловкости, неприкаянности, язвой расползшейся по моим щиколоткам: стыд, как проказа, грозился выдать меня на каждом шагу, пока я искала себе подходящее место, место, где бы я с моей внешностью не выделялась из массы блондинок с круглыми попками в импортных джинсах в облип и с тысячью серебряных колечек на обеих руках и верзил с залаченными волосами, плотно затянутых в синие блейзеры с золотыми пуговицами, на каждой — гравировка в виде якоря. Флотская мода, несколькими годами позднее всколыхнувшая этот город, столь радикально чуждый всем морям, тогда еще лишь подступала, как смутная угроза, но я не умела шнуровать ботинки морским узлом, и трагичнее этого было лишь то, как на мне сидели левайсы, которые моя мать исправно покупала мне в те годы. Однако пижоны, похоже, были генетически запрограммированы на обнаружение круглой попки даже в крайне неблагоприятных условиях: довольно скоро ко мне подошел первый, еще страшнее меня, еще ниже меня, еще толще меня — и намного глупее меня, — с которым, однако, был друг, знакомый с двоюродным братом одного действительно классного парня, блондина в неизменных хлопковых теннисках очень ярких тонов с белым воротничком и номером на спине: потом выяснилось, что все они были регбисты. Блондина звали Начо, он учился на факультете управления Католического университета, ему было девятнадцать и у него был «форд-фиеста» последней модели, цвета металлик, со множеством прибамбасов, кроме того, за парнем водилась славная привычка оплачивать столько джин-тоников, сколько я пожелаю между одним засосом и другим, как у нас тогда назывались поцелуи. Когда мы начали встречаться, он первым делом втолковал мне, что «Топаз» — образцово провинциальное место.