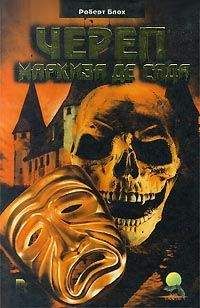Юрий Красавин - Дело святое

Обзор книги Юрий Красавин - Дело святое
Юрий Васильевич Красавин
Дело святое
Он проснулся — чужая постель, чужой воздух, чужая женщина рядом… Первым чувством было недоумение, первой мыслью: «Куда это меня занесло?». И тотчас вспомнил: «Ах, да…». Вчерашняя бесконечная дорога с пересадками из одного автобуса в другой — словно долгий полёт из морозного утра через блистающий солнцем день в звездный вечер и ночь; из моторного гула и людского говора, из дорожной тряски в тишину и покой, когда можно слышать, как паучок под потолком в углу прядёт свою паутину.
Та, что спала рядом с ним, повернулась, вздохнула глубоко, поднялась и стала одеваться, не зажигая света. Потом прошла на кухню, щелкнула выключателем и, не опасаясь обеспокоить гостя, звякала ковшиком о ведро, стукала чем-то о стол, может быть, даже намеренно. Вдруг оказалась возле кровати:
— Вставай-вставай, нечего разлеживаться! Мне на работу пора.
Помолчала и добавила сердито:
— Сделал свое дело и уходи.
Соломатин Флавий Михайлович, «сделавший свое дело», пошевелился, давая понять, что уже не спит, но распоряжению её не внял, потому как вставать не хотелось. Он так рассудил: уж раз оказался тут, то зачем спешить? Еще только светает, весь день впереди, нигде его не ждут. И кто она такая, чтоб так-то командовать им? Не мать, не жена и даже не сестра — просто женщина, с которой он волею случая проспал одну ночь. В конце концов он тут гость, а с гостем надо обращаться ласково. Особенно если он того заслуживает.
— Молоко и хлеб на столе, — продолжала хозяйка дома уверенным тоном, который ясно свидетельствовал, что она не сомневается: её распоряжения будут выполнены. — Наружную дверь запри на замок, ключ положь к окну за наличник.
По голосу её можно было понять, что она хмурится, что она раздосадована. Отчего? Чем она недовольна? Не с той ноги встала?
— Обворую дом, — сказал он сонно.
— На здоровье, — отозвалась она, одеваясь и обуваясь у порога, и добавила потише. — Было бы чего красть.
Он понял, что она сейчас уйдёт, и оставаться тут одному вроде как не с руки.
— Самовар. Куриц с нашести.
Она не приняла его шутки, сказала серьёзно:
— Ничего, милиция найдёт.
Чем он провинился? Спали дружно, разговор перед сном вели задушевный. Теперь же она строго и требовательно:
— Постарайся, чтоб тебя никто у нас в деревне не видел. Еще не хватало мне, чтоб сплетни потом плели.
Это вместо «до свиданья», вместе прощального поцелуя, который был бы вполне уместен в данной ситуации. И ушла. Грубиянка… невоспитанная особа… черствая душа.
Флавий Михайлович зябко поёжился под ватным одеялом, словно от подувшего вдруг холодного ветра. Но вчерашнее довольно утомительное путешествие да и чрезвычайные ночные обстоятельства давали о себе знать: вставать не хотелось.
А о самоваре сказал не зря: очень уж он понравился ему вчера: этакий добродушный толстячок — у него замечательное свойство: любое, даже самое скучное лицо зеркально отразит веселым, потому как и сурово сжатый рот на нём улыбается — такая в нем особенность. И шумел забавно, при этом посвистывал — как сверчок.
Флавий Михайлович перевернулся на другой бок и погрузился в полудрёму. Поплыли в памяти события вчерашнего дня: как ехал в междугороднем автобусе из Новгорода в Тверь и познакомился с молодой женщиной, сидевшей рядом; как разговаривали они, чувствуя нарастающее расположение друг к другу. Звали её Ольга, отчества своего она не назвала: молода, мол, еще для отчества. А его имя удивило её настолько, что она переспросила дважды и даже заподозрила, что он иностранец. Соломатин отрицать не стал и несколько развил это её предположение.
— Две тысячи лет назад наш род — род Флавиев в республиканском Риме пользовался большим весом, — объяснил он ей. — Мы дали Риму две императорские династии: первая — Веспасиан, Тит, Домициан — правила лет тридцать; вторая — от Константина Первого до Юлиана — вдвое дольше.
— О Господи! — сказала спутница, пораженная в самое сердце немыслимыми ей именами, и повторила их неуверенно. — Веспасиан, Домициан.
Она была далека от познаний в древней истории — это ясно, и тем более понравилась ему, как понравилась и прояснившаяся вдруг древность его собственного рода.
— Была еще третья династия, которая носила имя Флавиев, — охотно вспоминал Соломатин, — она правила сто лет. Так что я прямой потомок, оттуда и угодил прямо сюда.
Тут она засмеялась:
— А как вас жена зовёт? Флавочка? Или Лава?
— Вот так: приношу тебе, владыка, величайшую благодарность за то, что ты среди важнейших занятий удостаиваешь меня своим руководством, а потому прошу тебя сходить в магазин за хлебом. Или так: не в ущерб величию твоему, владыка, снизойди к моим заботам, раз ты дал мне право обращаться к тебе в сомнительных случаях, а потому подвинься, я лягу.
— Надо же! — простодушно дивилась эта Ольга и вспыхивала смехом.
У неё были редкой красоты зубы — ровненькие, один к одному и сахарной белизны. Она знала это, потому-то столь охотно и улыбалась, и смеялась.
А потом был у них разговор, который ещё более сблизил их. Потому к Твери подъезжали — расставаться не хотелось обоим, и с юношеской безрассудностью Соломатин изменил свой маршрут: сел вместе с нею в другой автобус, поменьше, который повез их в городок районный; а дальнейшее поведение Соломатина было и вовсе дурацким — уже третий автобус, дребезжащий, насквозь простуженный, минут за двадцать доставил их в большое село с церковью, магазином, школой и даже с двумя уличными фонарями; здесь, как выяснилось, его спутница работала в колхозной конторе то ли бухгалтером, то ли экономистом, а вернее, и тем, и другим. Но жила она отнюдь не в этом селе — им предстоял ещё пеший путь.
«Экой я дурак!» — подивился теперь Соломатин, лёжа в постели и вспоминая.
Уже в вечерней темноте шли они по заснеженному полю, по бездорожью до маленькой деревеньки. Тут отперли дверь дома с темными окнами, на ощупь прошли по сеням — женщина впереди, он за нею — и вступили в промерзшее, словно вовсе нежилое помещение, то есть собственно в избу. Печку растопили, самовар разогрели, ужинали.
Сначала-то, еще в автобусе, общение их происходило весело, как шутка или игра; женщина даже смелей его была, все время сохраняя уверенное положение и даже подтрунивая над ним. Но вот когда шли в деревню её и когда уже отпирали дверь дома, обычное женское кокетство перешло в озабоченность, нараставшее смущение становилось растерянностью и даже паникой! Это когда он сказал, уже вставая из-за стола, за которым ужинали вдвоём:
— Ну что, Оля, стели постель, пора.
И вот тут полное смятение отразилось на её лице, она выговорила непроизвольно:
— Ой, я боюсь.
Крупная женщина, в цветущем возрасте — двадцати семи или двадцати восьми лет от роду, уже побывавшая замужем. Она не могла смотреть ему в глаза, не могла найти места рукам и голоса своего не слышала.
— Знаете что, вы тут спите, а я к тетке Вале пойду.
Она и впрямь хотела уйти, но он удержал ее, взяв за руку, и так укоризненно покачал головой, что она смутилась ещё больше.
— Да ты что, Оля!
Она села на лавку, встала, опять села, словно боясь постели, будто не постель это, а плаха для казни. Слышно, прошептала:
— Ой, боюсь.
— Ну, от этого ещё никто не умирал, — заметил он ей ради утешения или ободрения. — И не мы с тобой это вообще-то придумали — спать вдвоём.
На что она отозвалась недоверчиво:
— Да?
Тут уж Соломатин совсем развеселился:
— Уверяю тебя!
Она засмеялась коротко, словно боязливо.
— Чего ты испугалась-то? — укорил он, легонько подталкивая её к кровати, поторапливал, уже в нетерпении. — Я не резать тебя собираюсь. Давай-давай, раздевайся, не девочка по шестнадцатому годику.
Разумеется, надо было её обнять и поцеловать, и сказать пылким шепотом нежные слова, но слова эти и шепот — когда люди соединяются по любви, а тут другое. Он и непонятного и самому себе чувства не хотел произносить торопливых, взволнованных слов — душа его протестовала! Он движим был не сердечным и не плотским влечением, а как бы чувством долга.
Наконец, она превозмогла себя, с обреченным видом разобрала постель, сена на край её и опять произнесла растерянно:
— Боюсь.
Он стал расстегивать пуговицы её кофты. Она его оттолкнула:
— Ещё чего! Я сама.
Выключила свет.
— Зачем?! — запротестовал он.
— Что же я, при свете буду раздеваться? — возмутилась она.
Скрипнули половицы. Это она прошла по комнате и повесила что-то в переднем углу, вернулась и стала раздеваться. Он выждал момент, нашёл выключатель, щёлкнул, — Ольга, совершенно голая, встав на цыпочки, снимала с полки, которую она почему-то называла грядкой, рубашку белую, ночную. Соломатин мгновенным взглядом охватил её, ахнувшую от возмущения, — очень зрелая женщина, этакого крестьянского склада: у неё большие груди, широкие чресла, будто рожала не раз, крупные тяжелые ноги, толстопятая мужичка, одним словом.