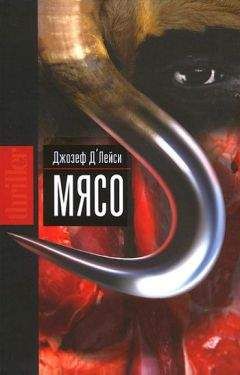Александр Кузьменков - Четыре рассказа

Обзор книги Александр Кузьменков - Четыре рассказа
1983, или Дурдом
Автобус двадцать первого маршрута приходил на Шанхай трижды в день, собирая редких пассажиров с единственной улицы поселка. Левый ее край упирался во вдавленный пустырь, похожий на неглубокую тарелку. Вокруг него рассыпались времянки, которые горисполком божился снести каждую пятилетку, а центр был обнесен железной решетчатой оградой. За ней стояли шлакоблочные корпуса психиатрического диспансера. Конечная остановка автобуса была в полусотне метров от больничных ворот.
Шанхайские представляли себе дурдомовскую жизнь лишь понаслышке, но те, кто шел на остановку из-за забора, большей частью знали, как оно бывает у дураков.
У дураков были голоса, которые нашептывают им гадости или, наоборот, комплименты; и свои уникальные теории, способные перевернуть весь мир; и страх, и тоска, и непонятная ноющая тяжесть на сердце, когда нет другого выхода, кроме как раздавить найденный аптечный пузырек и надрезать осколком предплечье, пусть немного боли, но зато потом — ничего, блаженное ничего; и совсем другое, когда все так легко, и ты всех любишь, и это взаимно, и так много хороших мыслей; и глухие, неясные намеки в разговорах вокруг, и по радио, и в газете; и стелазин, и галоперидол, от которых все тело костенеет, отказываясь подчиняться, и их не выплюнуть, потому что сестры каждый раз заглядывают в рот; и трудотерапия — оплетки для рулей и мыльницы с присосками; и аминазиновые инъекции; и крик привязанного в соседней палате. Вот как было у дураков, и этим жили восемь отделений больницы, разместившейся в четырех двухэтажных корпусах.
Наблюдалка во втором мужском была начисто лишена дверей. Мимо пустого проема то и дело сновал Саша Быков. Он день-деньской мерил шагами коридор, бормоча себе под нос: «Пло-пло-пло-плохо, плохо мне...». Время от времени Саша вынимал руки из карманов, плевал на ладони и принимался приглаживать остатки жидких волос на висках. Еще одного ходока все отчего-то звали лишь по фамилии — Трубников. Бывший штурман гражданской авиации тоже бродил по коридору с монотонностью метронома и клянчил у персонала градусник. Получив очередной отказ, он принимался измерять температуру своим фирменным способом, прикладывая руку то ко лбу, то к стене. В доску заколебали, говорил Виталя с тяжелым вздохом. То же самое он повторял полушепотом, когда в наблюдалку заглядывали сестры: в доску заколебали.
И в самом деле, публика в наблюдалке подобралась тихая, и в особом контроле никто не нуждался. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, вспоминал Андрей. Виталя, тот беспробудно квасил три дня, а на четвертый по полу квартиры забегали облезлые крысы с мерзкими голыми хвостами, то и дело норовя цапнуть за ноги. Виталя, перепрыгивая через долбаных грызунов, кое-как выбрался на улицу, но тут к нему привязалась противная черная собака. Он принялся швырять в кабыздоха палки и камни, а поскольку дело было возле ментуры, его повязали, не отходя от кассы. Поганая псина потом еще несколько дней приходила выть под окнами палаты. Корсаков, резюмировала сестра. Рузиль при ее приближении брался за спинку кровати: женщины были отрицательно заряженные существа, и рядом с ними следовало заземлиться, чтобы не нарушать обмен тонких энергий. Если под руками не оказывалось металла, он сплетал пальцы в сложную мудру: это тоже помогало, но хуже. А благотворнее всего на процессы энергообмена влияла, конечно же, прана, ее легко можно было выделить из пищи — скажем, поболтав ложкой в супе, чтобы по поверхности пошли пузыри. Блейлер, качала головой сестра. В дальнем углу, подтянув желтые костлявые колени к щетинистому подбородку, лежал на кровати голый безымянный бомж, которого недели две назад подобрали в беспамятстве на городской свалке. Трое пациентов наблюдалки старались держаться от него подальше: испражнялся он, не поднимаясь с постели, ночью сам с собой вслух обсуждал дневные впечатления, и Виталя как-то раз не выдержал и швырнул в него тапком. Альцгеймер, вздыхала сестра, и было похоже, что светила психиатрии сами тронулись умом и сидят где-то рядом.
Про Андрея она пока ничего не говорила. Сам про себя он тоже знал немного: в сопроводиловке, с которой его направили сюда из первой горбольницы, он подсмотрел шифрованную цифирь «295.54?» И только-то.
Вышло вот как: он лежал на диване, уткнувшись лицом в подушку. Короткое пунктирное полузабытье не помогло. Голова была деревянная и угловатая: как ни поверни, — все угол, волосы на лбу и под мышками слиплись от пота, рот был полон блевотной горечи. Ненавижу, твердил он невесть кому, кусая пальцы. В уши лезло навязчивое поппури заезженных мотивов ниоткуда. Хуже всего был уличный фонарь: его мертвый металлический свет, едва поднимешь голову, резал глаза и не оставлял никакой надежды. Но надо было поднять. Андрей глянул на фонарь, потом на циферблат электронных часов над входом заводоуправления. Они показывали 28:32, сломались, должно быть. Он встал и пошел в ванную, полюбовался на себя в зеркале. Так себе видуха. Впрочем, это уже не имело значения. Смерть стояла рядом с толчком, скалила кариозные зубы, от нее разило прелыми кладбищенскими цветами, но жить хотелось еще меньше, чем умирать. Он разобрал станок, вынул оттуда лезвие «Матадор» и полоснул по руке чуть ниже локтя. Бритва пропорола кожу, но вена пружинила и ускользала от затупившейся нержавейки. Он полоснул еще раз. Из порезов выступила кровяная роса. Захотелось слизнуть красные капли, вернуть бритву на место и улечься на диван, да скомканная подушка и бельмо фонаря за окном были невыносимы. Давай-ка снова да ладом, Сенека недоделанный. Он перетянул руку полотенцем и заработал кулаком, сжимая и разжимая пальцы. Вена ожила, набухла и запульсировала. Андрей, зацепив ее край лезвием, резко, с неожиданным остервенением рванул бритву на себя. Венозная кровь оказалась горячей и почти черной. Он уронил лезвие в раковину, развязал узел полотенца зубами и сунул руку под струю теплой воды, чтобы не было тромба. Вот так. Оставалось лишь сидеть и ждать. Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь точит твое сердце, то знай: удастся смерть, — однако Ницше, поганый сифилитик, сам не ведал, чего порол в прогрессивном параличе. Сосед за стеной, ублюдок в состоянии перманентного бодуна, очухавшись среди ночи, завел раздрызганную «Комету», и Пугачиха на весь подъезд взвыла: «Жизнь невозможно повернуть назад...». Мать, поднявшись с постели за нуждой, заглянула в совмещенные хрущевские удобства, охнула и побежала набирать «03», даром что сама врач. Андрей, перемотав руку полотенцем, сидел на краю ванны и материл сквозь зубы соседа с его похмельными заскоками, самого себя и мать с ее ночным недержанием.
В лазарете ему, наскоро перебинтованному, дежурная медсестра ширнула чего-то в задницу, приговаривая: ты что ж это, сынок, грех ведь, Господь тебе жизнь дал, он и возьмет, когда надо; а молодой-то какой; сколько тебе, девятнадцать? студент? Студент, ответил Андрей, проваливаясь в дремоту. Ну, ничего, сынок, ничего, сейчас уснешь, я тебе димедрол поставила, заспи-ка ты всю дурь, утро вечера мудренее, вот увидишь.
Ну, еще бы, куда как мудренее. По четвергам в стационар наведывался психиатр из районной поликлиники, и тут стало ясно, что мать раскопала дневник — такие уж вопросы задавал этот обрюзгший еврюган с волосатыми ушами и ноздрями. В пятницу Андрей угодил на Шанхай. Прием во втором мужском вел мутноглазый, отечный и небритый Иванов: как спишь? как настроение? ну, ясно, что могло быть и лучше; полежи пока, отдохни, мы за тобой понаблюдаем. В кабинете стоял удушливый запах вчерашней перегорелой бормотени.
Саша Быков и штурман Трубников были забавны, да и Иванов, пожалуй, тоже, как, впрочем, и вся здешняя жизнь — за исключением разноцветной дряни, которой пичкали три раза в день. От серых и плоских таблеток тизерцина рот моментально пересыхал, а язык становился шершавым, как рашпиль. Желтые шарики амитриптилина делали тело ватным и по-черепашьи неповоротливым. Гаже всего оказались крошечные белые пуговки мажептила с тиснеными буквами «maj»: на месте не сиделось, хотелось вскочить и бежать, но ноги, едва встанешь, подворачивались на каждом шагу; нижняя челюсть отвалилась, и вернуть ее на место было невозможно, потому что намертво сведенные судорогой щеки одеревенели, будто в оскомине, из глаз сами собой потекли слезы, из открытого рта — тягучая слюна, а голова дергалась, запрокидываясь назад. Блядство какое, повторял Андрей про себя, вот ведь блядство какое. На большее сил не хватало. Откуда-то появился коренастый мужик в очках, перемотанных изолентой, заложив руки в карманы застиранных пижамных штанов, по-хозяйски прошелся по палате, с профессиональным прищуром оглядел Андрея, недовольно хмыкнул и исчез, чтобы через пару минут появиться с колесами, зажатыми в кулаке: жри, юноша, сейчас полегчает. Да жри, тебе говорят. Ты чего ему даешь, поинтересовался Виталя. Мужик обнажил в ухмылке острые и черные осколки зубов: тебе скажи, ты тоже захочешь. Жри, юноша, и помни Достоевского. И в самом деле, скоро полегчало, и рот наконец-то захлопнулся. Тогда Андрей запоздало удивился: причем тут Достоевский? Однако додумать не случилось. В наблюдалку заглянула медсестра: Рогозин, пошли, завотделением вызывает.