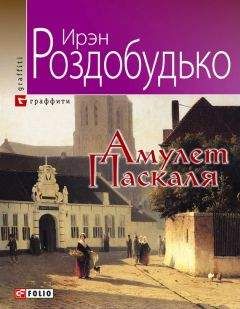Мюррей Бейл - Эвкалипт
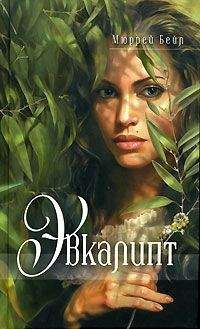
Обзор книги Мюррей Бейл - Эвкалипт
Мюррей Бейл
Эвкалипт
1
OBLIQUA[1]
Отчего бы не начать с эвкалипта пустынного, он же desertorum; народное название — крючковатый малли[2]? Листья у него конусообразные, сужаются к концу до тоненького крючочка; произрастает в засушливых внутренних областях страны.
Но desertorum (раз уж мы с него начали) — лишь один из нескольких сотен эвкалиптов; точного числа не знает никто. Как бы то ни было, само слово desertorum, «пустынный», возвращает нас к навязшему в зубах типу национального пейзажа, а от него рукой подать до национального характера, до всех этих подстежек души и гортани, что уходят корнями в буш[3] (во всяком случае, так утверждается): до всех этих воспетых поэтами преимуществ (вы только вообразите себе!) житья-бытья среди засух, лесных пожаров, вонючих овец и всего такого прочего; и не забудьте еще и про изоляцию, и про измученных обрюзгших женщин, и про грубый язык, и про неизменно широкие горизонты, и про мух.
Именно такие обстоятельства и порождают все эти ужас до чего пресные (серовато-бурые, если можно так выразиться) байки о злополучных неудачниках, все эти истории, что рассказывают у костра и на бумаге. Истории из серии «некогда в стародавние времена» — попервоначалу занимательные, однако здесь совершенно неуместные.
Кроме того, в Eucalyptusdesertorum ощущается что-то неприятное. И даже нездоровое. Это скорее куст, нежели дерево, ствола у него почитай что и нет, лишь несколько чахлых побегов торчат себе в разные стороны над самой землей, от одного их вида свербеть начинает.
С тем же успехом можно было бы обратиться к редко встречающемуся Eucalyptuspulverulenta, эвкалипту пылящему. Название у него энергичное, а листья — причудливые, в форме сердечка; этот вид встречается лишь на двух узких уступах Голубых гор и нигде больше. А как насчет эвкалипта разнолиственного, он же diversifolia, или transcontinentalis, эвкалипта трансконтинентального? Эти, по крайней мере, подразумевают известную широту применения. То же можно сказать и про эвкалипт шаровидный, Е.globulus: его повсеместно используют как заслон от ветра. В два часа дня с передней веранды Холленда хорошо виден одиночный экземпляр Е.globulus — ни дать ни взять филигранная серо-зеленая брошка, этак стильно приколотая к фетровой женской шляпке; дерево это придает устойчивость обесцвеченному, текучему пейзажу.
Все до одного эвкалипты интересны — каждый по-своему. Некоторые наводят на мысль о мире явственно женском («желтая жакетка», «роза Запада», «плакальщица»). Эвкалипт Мейдена, Е.maidenii, в народе известный как эвкалипт девичий, одаривает фотогеничной тенью голливудских звезд. Или вот ярра[4] — всяк расхваливает до небес ее древесину. A Eucalyptuscamaldulensis, то есть эвкалипт камальдульский? Мы зовем его «красным приречным». Уж слишком он мужиковатый, слишком по-мужски властный: и в придачу весь в старческих бородавках да прыщах. Что до эвкалипта-призрака (Е. рариапа, эвкалипт Папуа-на), кое-кто взахлеб уверяет, будто красивее дерева в целом свете не сыщешь — видать, потому его и заездили до смерти на календарях с национальной символикой, и почтовых марках, и чайных скатертях. У Холленда один такой экземпляр обозначал собою северо-восточный угол участка, тот, что смотрит в сторону города: размахивал себе белыми руками-ветками в темноте, ни дать ни взять — взбесившийся землемерный колышек.
Можно было бы до бесконечности превозносить своих любимцев или же, напротив, вернуться к перечислению ботанических терминов, что сами по себе попадают почти в тон, либо представляют собою краткое резюме, если, конечно, такое возможно, либо безнадежно неуместны, ни к селу ни к городу, как говорится, зато привлекают взгляд чисто лингвистической экзотичностью — как, например, platypodos; в то время как всего-то и нужно (естественно, кроме начала как такового) указать, что эвкалипт совершенно самостоятельный, и при этом… ну да ладно, неважно.
В стародавние времена жил да был один человек… а что не так-то? Допустим, начало не самое оригинальное, зато проверенное временем, что уже обещает нечто ценное, весомое, некий глубинный импульс, на который, того и гляди, отзовешься, широкий спектр возможностей для занесения на бумагу.
Давным-давно жил-был один человек — жил в собственном имении на окраине захолустного городишки в Новом Южном Уэльсе[5] и никак не мог решиться, что ему делать с дочкой. И тогда принял он решение самое что ни на есть неожиданное. Какое-то время люди только об этом и судачили, только об этом и думали, пока не осознали, что оно вполне в его духе и удивляться, собственно говоря, тут нечему. Впрочем, толки и по сей день не улеглись, ибо последствия пресловутого решения до сих пор ощущаются и в самом городишке, и в его окрестностях.
Звали сего человека Холленд. Жил Холленд с единственной своей дочерью в имении, границей которого с одной стороны служила река цвета хаки.
Находилось имение к западу от Сиднея, через степь и прямо на солнце; на японской машине часа четыре езды.
Повсюду вокруг земля смахивала на этакого геологического верблюда: неспешно вздымающаяся все выше, бурая, загрубелая, вся в пятнах теней, что словно подрагивали в жару, и бесконечно терпеливая с виду.
Кое-кто утверждает, будто помнит тот день, когда Холленд приехал в тамошние края.
Жара стояла — не продохнуть; сущее пекло. Холленд сошел с поезда один, без женщины — тогда еще без. Не задержавшись в городе даже стакан воды выпить, он поспешил прямиком в свое новообретенное имение, проданное за отсутствием наследников, и принялся обходить его пешком.
Были там запруды цвета чая с молоком, и сараи из рифленого железа на трапециевидном склоне, и лесные склады с запасами колотых дров, и — ржавчина. Одинокие дебелые эвкалипты царили над знойными пастбищами; стволы их в сумерках отсвечивали алюминием.
Первым здесь обосновался тощий, поджарый поселенец с тремя сыновьями. Поначалу спали они прямо как были, в одежде, согреваясь под мешками из-под зерна или под боком у овчарки; этим волосатым парням с изможденными лицами было не до женщин — с бабами, всяк знает, хлопот не оберешься! Никто из них так и не женился. То был народ скрытный, себе на уме. В бизнесе они предпочитали не выдавать своих истинных намерений; жили, чтобы приобретать, умножать и копить. При первой же возможности чего-нибудь да прибавляли: огороженное пастбище-другое то здесь, то там, акры и акры земли; несли в заклад все ценное, зато прирезали даже испещренный нездоровой сыпью склон по другую сторону холма, вечно погруженный в тень и заросший репейником, — и наконец исходный участок каменистой земли совсем растворился, волнообразно растекся сколько хватало глаз, по форме вилочки — грудной кости птицы, — а не то сломанной тазовой кости.
Эта четверка просто помешалась на кольцевании деревьев. Не брезговали они ни стальными ловушками, ни огнем, ни всевозможными ядами и цепями. На дальних изрезанных выгонах гигантские эвкалипты медленно обесцвечивались и загибались, точно срезаемый ноготь. Тут и там в беспорядке валялись голые прямые стволы — где один поверх другого, где под углом, точно вагоны сошедшего с рельс поезда. К тому времени братья уже махнули на них рукой и начали расчистку следующего прямоугольника.
Когда дело наконец-то дошло до строительства усадьбы как таковой, сложили дом из унылого серого камня, что по какому-то смехотворному недоразумению зовется голубоватым песчаником: добывают его в туманной, откровенно промозглой части Виктории[6]. Позже видели, как один из братьев выводит извилистую белую линию вдоль рядов кирпичной кладки, и вдоль, и поперек, и уж так старается, что аж язык высунул. В точности как было с землей, так же и тут присобачивались веранды, флигели… да мало ли что. В 1923 году добавилась башня — этакий символ своего рода главенства и господства, — где четверка могла посумерничать за стаканчиком чего-нибудь крепкого, постреливая наугад по всему, что движется: по кенгуру, орлам и эму. К тому времени, как отец приказал долго жить, участок превратился в одно из крупнейших имений в округе и, теоретически, — в одно из лучших (учитывая приречные земли); но трое оставшихся сыновей тут же и перессорились, так что часть выгонов пришлось продать.
Однажды вечером — собственно, в сороковых годах — последний из холостяков-братьев свалился в реку. Никто не помнил, чтобы он за всю свою жизнь хоть слово вымолвил. Славился он главным образом медлительностью: вот уж кто ноги едва передвигал, тут ему во всей округе равных не нашлось бы. Несносная система ворот на выгонах с топорными фаллическими задвижками — это не кто иной, как он расстарался. Это он своими руками соорудил висячий мост через реку — отчасти как шаткий памятник далекой мировой войне, каковая его, как ни странно, обошла стороной; но главным образом того ради, чтобы мериносы, с их комичной, расчесанной на пробор перманентной завивкой, переходили реку, не замочив ног, когда раз в семь лет паводок превращал пологий склон у дома в размокшую протоку. Какое-то время в округе только и судачили, что о мосте: на что, дескать, он сдался-то? — а следующее поколение сочло его докучной помехой. Сейчас помянутый мост украшает глянцевые страницы книжек, изданных в далеком городе, иллюстрируя остроумный и вместе с тем утилитарный характер народного творчества: между двух деревьев натянуты четыре троса, настил — кипарисовый, и крепления из проволоки-нержавейки.