Александр Нежный - Nimbus
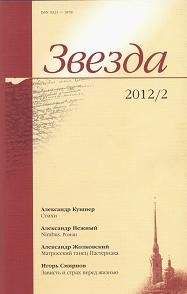
Обзор книги Александр Нежный - Nimbus
Nimbus. Роман
Памяти моей сестры Ольги
Глава первая. Убийца
Последняя перед Москвой ночевка была в деревне Спасово на Калужской дороге. Весь этап, двадцать девять человек, положили на прошлогоднее сено в большом сарае с дырявой крышей.
— Слышь, дядя, — попросил старого унтера Андрюха Ковалев, высокий здоровый малый с наполовину выбритой головой и оттиснутыми на щеках и лбу тремя буквами: «КАТ», — ты бы нас спрута что ли снял. Которую ночь не сон, а пытка. И парень, — он указал на Гаврилова, — доходит. Как бы не чахотка.
Унтер устремил задумчивый взгляд сначала на него, потом на Гаврилова, согнутого приступом кашля, а затем и на всех остальных, прикованных к железному пруту: на Захарию, монаха лет пятидесяти, за пророчества отправленного в Суздаль, в тюрьму Спасо-Евфимиева монастыря, на Евдокию Сироткину, бабу совсем молодую, шедшую в Сибирь к сосланному мужу, на Мойшу, еврейского мальчика, определенного в кантонисты, и на Василия Ермолаева, крепостного мужика, едва не до смерти забившего своего помещика и за то беспощадно поротого и приговоренного к бессрочным каторжным работам.
— Сыми, — мрачно повторил клейменый, — мочи нет.
Унтер еще посмотрел, еще подумал, наморщил коричневый от солнца и ветра лоб и промолвил не торопясь:
— Тебя, к примеру, Андрюха, отмыкать никак нельзя. Сбежишь, а нам ловить. А не изловим — вся служба, да што служба — вся наша жизнь горькая псу под хвост! К вам же и пристегнут и погонят считать сколь верст до Сибири. И Ваську этого. Да ты глянь на нево! Волк сущий, а волк, куды бы ни глядел, все в лес.
— Я, может, и волк, — тотчас отозвался Ермолаев. — А ты собака. Служил и выслужил — людей стеречь.
— Во-во, — беззлобно сказал унтер. — На цепи, а кидается. Отомкни ево. Жиденка бы отомкнуть можно… Сердечко у ево в пятках колотится. И доходягу этого… И бабу…
— Отомкни, будь отцом родным! — взмолилась Евдокия. — Я уж ни о чем не мечтаю, а хоть бы разочек по нужде без стыда сходить. Мужики ведь кругом, я терплю до последнего, счас прям лопну или чево еще… А они стоят, глядят. Что ж так с християнами по-зверски.
— Како людям меришь, — откашлявшись, хрипло молвил Захария, — так и тебе отмерится. Што такое делаешь неугодная Господу Богу и совсем противная Божеству Его? Гляди, — погрозил он черным пальцем. — Погибнешь злою смертию, и память твоя потребится от земли живых!
— Ишь ворон, — невозмутимо ответил старый воин. — Раскаркался. Ты графьев да министров пужай, а я, брат, пужаный. Да и ключа у меня нету. Ключ в кошелечке кожаном, кошелечек тот на груди господина маиора, на серебряной позлащенной цепочке рядом с крестом, а господин маиор, выпимши, изволят почивать со здешней блядской девкой и сей момент либо этой девке прелюбы творят, либо, отодравши, без задних ног спят сном праведника. И вам отбой. Завтра в Москве вас немец-доктор с прута сымет.
Они легли: прут посередине, по одну его сторону клейменый Андрей, Мойша, мышонок перепуганный, и Захария, прочитавший «Отче наш», с трудом перекрестившийся прикованной к пруту правой рукой и обругавший злодеев, кои даже цепь для православного человека не смогли устроить длиннее, дабы возможно было ему без помех осенять себя крестным знамением; а по другую, стало быть, Василий Ермолаев, молча натянувший на голову драный кафтан, Гаврилов, пытавшийся нагрести на себя побольше сена и устроиться в нем, как в теплой норе, и Евдокия, тотчас свернувшаяся клубочком. Гаврилов то горел и таял, будто свеча, то трясся, словно нищий в лютый мороз. В груди сипело, хрипело, скребло, и, разрывая горло, он заходился долгим сухим кашлем. Глаза слипались, но спать не мог. Будто издалека слышал, как всхлипывал и, подвывая, тоненько плакал Мойша и все звал кого-то: «Мутти… Мутти…» Маму звал бедный жиденок на своем тарабарском языке. Кого еще может звать брошенный в огромный и жестокий мир маленький мальчик? Вычитывал вечернее правило Захария, шумно вздыхал и повторял: «Гос-споди, помилуй… Гос-споди… Иисусе… милуй, Гос-с…» — и так и уснул с именем Господа на устах. Неподалеку звякнула цепь и началась свара. Гадюкой зашипела знакомая Гаврилову с первого дня этапа баба с седыми из-под платка космами и седой, завитками, порослью на остром подбородке.
— Ч-ч-чево… с-ш-шуч-чонок.. ш-ш-пать… меш-ш-шаеш-шь…
— До ветру мне, пани, — сквозь терзающий его кашель услышал Гаврилов виноватый юношеский басок.
А! Тощий парень лет шестнадцати, поляк, собственной волей отправившийся в Сибирь к сосланному отцу.
— Ш-ш-то… — шипела гадюка, — вш-ш-ш-тавать… из-за т-т-т-ебя… Т-терп-п-и.
— Сказано, терпи! — проснулся и прохрипел кто-то у них на пруте. — По чижолому — до утра, а по лехкому…
— Пус-с-с-ть… в п-п-п-ортки… ш-с-с-ыт…
— Ты, старая сука, сама ссы, — еще один у них пробудился, и Гаврилов знал, кто: всей России известный отчаянный вор по имени Сухоруков, молодой мужик с черными веселыми глазами. — Айда, голуби, айда!
Слышно было, как они вставали, кряхтя и бранясь. Ударившись о прут, звякали цепи.
— Дзенькую, пан, — сказал поляк. — Брюхо крутит… Не мочь более.
Потом страшно матерился приставленный к сараю солдат, в шесть голосов орали на него они, потом, скрипя, распахнулись ворота, стало тихо, и Гаврилов ощутил легкое прикосновение к своему лбу. Прохладой повеяло. Ах, как ему было тяжко, как было жарко и душно и как давило грудь сено, которым, будто одеялом, ухитрился покрыть он себя! Отчего стало вдруг так легко и свежо? Отчего словно свет вспыхнул у него в душе и разогнал черноту последнего года его жизни? Отчего теперь он не чувствует тесно сжавшего запястье левой руки наручья и цепь, приковавшую его к проклятому пруту? Да, да: завтра, в Москве, ему наконец поверят, что он никогда никого не убивал. Помилуйте, господа, мыслимое ли дело сочинять из меня убийцу! Не скрывал и перед вами не скрою: терпеть не мог эту злобную старуху, Оленькину тетку. Она, и только она, будто стеной, встала на пути нашего с Оленькой счастья! Но даже мысли… что мысли! тени мысли, намека, тайного искушения, в котором человек не признается даже самому себе, не было, чтобы отправить ее на тот свет.
Взгляните на меня вашим проницательным взором. Бедный студент. Где мне тягаться капиталом с теми, кто упорно домогается Оленькиной руки! Все отпрыски самых богатых в нашей Коломне купцов; один же старец, пятидесяти пяти лет, с несметным состоянием, прослышав о ее ангельской красоте и таком же нраве, приезжал свататься даже из Москвы. И ему Оленьку обещали. Я как узнал — у меня в голове помутилось. Я готов уже был — нет, не к пролитию крови, избави бог! — а к похищению и тайному венчанию в Троицкой церкви за Окой, о чем была договоренность с ее священником, отцом Алексеем, вполне вошедшим в наше положение. У меня нет никакого капитала. У меня в Коломне мать с жалким пенсионом за покойного батюшку и слугами Домной и Петром, которых не назвать иначе как Филемон и Бавкида, до того они стары и преданы друг другу и матушке. Я у матушки и копейки просить не имею права; меня кормят уроки в пяти семействах и заметки о театре, литературе и различных происшествиях, которые у меня принимает иногда сам Михаил Петрович Погодин, а также «Русский инвалид» и «Московские ведомости». Пусть у меня на нынешний день нет капитала, но у меня есть незыблемые представления о чести, достоинстве и нравственности; у меня, наконец, есть будущее, предреченное моими профессорами в университете, согласно отмечавшими мои успехи в науках, как тов истории, словесности, древних языках и в юриспруденции. Но душа моя восстает и сердце ропщет при мысли о будущем без Оленьки. Не надо мне будущего, науки и капиталы для меня не имеют цены, если ее не будет рядом! Зачем мне жизнь без нее? О да, я грешу, отвергая столь отчаянно и бесповоротно Божий дар, коим, как всем известно, является наша жизнь. И в сугубую вину ставлю себе ускользающую от меня мысль о матушке, не чающей во мне души. Как она вскрикнула, моя бедная, когда в сопровождении двух полицейских явился за мной господин Сыроваров, наш пристав! Несмотря на всю нервность обстановки, я отметил что-то жалобно-заячье в ее крике, сердце у меня упало, и я тоже крикнул, страдая: «Матушка, не надо!» Как она руки простирала, умоляя отпустить ее дитя! Он, мне кажется, был весьма смущен выпавшей ему неблаговидной ролью и, то отводя глаза в сторону, то устремляя их в потолок, гудел своим всей Коломне известным басом: «Анна Андреевна, право… Одно вам могу… И супруг ваш покойный тоже, так сказать, пусть в небольших, но чинах, принимал во внимание коловращение событий. Всякое может, прошу понять. Непременно все выяснится». Когда-нибудь выяснится, я в том уверен. Но ей, матушке, в ее-то годы каково жить с таким грузом на сердце?! Сын — убийца.



