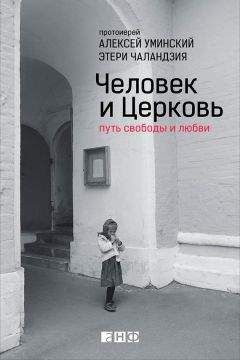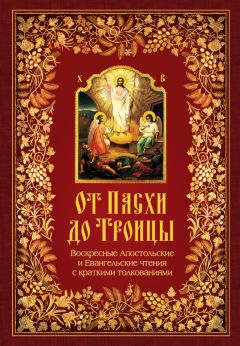Мириам Гамбурд - Рассказы
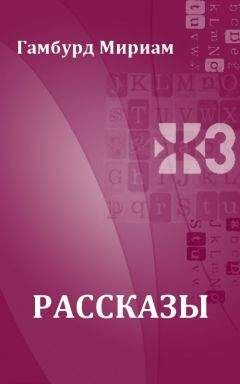
Обзор книги Мириам Гамбурд - Рассказы
Гамбурд Мириам
Менялы для прекрасной Лалы
Стадо беглых египетских рабов, сколоченное в народ Синайским откровением, голубоглазым быть не могло. Скорее оливковый колер подходит для жителей тех широт, оливковый, как переспелые маслины сорта «сури», которые не годятся для отжима на масло — только для засолки. Неплох для пустынников карий или пегий в крапинку цвет глаз, как оперение перепелов, спускавшихся на стан израилев по вечерам. Перепела съедались без соли и без лука, ведь лук репчатый и лук-порей, горшки с мясом и хлеб досыта остались в светлом рабском прошлом. А как насчет черного как африканская ночь? — тоже годится. Но голубой — нет. Тогда откуда у евреев голубые глаза? Подходящим может быть еще желтый цвет нильской воды в дни праздника полноводия, когда все ушли на праздник, а жена Потифара осталась, заболела якобы. Вместе с ней в огромном пустом хозяйском доме остался управляющий имением молодой раб Иосиф, тот самый, которого православная традиция зовет Прекрасным, а еврейская — Праведником. Хозяйка влюблена в своего раба, но он отказывает ей во взаимности. Остался он в доме чтобы исполнить свои обязанности — привести в порядок счета хозяина. Остался исполнить супружеские обязанности хозяина! — считают авторитеты Талмуда. Так о чем это я? Да, о голубом цвете глаз. Об этом существует легенда — и нет, как известно, ничего достоверней легенды — о казаках Богдана Хмельницкого, промышлявших продажей девушек, выкраденных в украинских, тогда еще польских, еврейских местечках, богатой и процветающей еврейской общине Стамбула. Выкуп пленных — важная заповедь и дело богоугодное, и община регулярно выкупала несчастных пленниц, которые после нескольких дней пребывания на казачьем судне частенько прибывали на турецкий берег беременными. Их дети, появившиеся на свет, по законам Галахи считались евреями. Казаки умыкали только молодых и красивых, таких можно было продать и в гарем, тем самым создавая здоровую конкуренцию между гаремом и еврейской общиной. Цены на пленниц диктовал огромный невольничий рынок, расположенный рядом с портом. Сюда в XVII веке переместился багдадский женский рынок, столетием раньше бывший самым большим на Востоке. Молодые женщины шли по тысяче курушей за особь, мужчины — за восемьсот, пожилые женщины — за двести, старики спросом не пользовались, поскольку товарной ценности не представляли. Лошадь, к примеру, стоила пять тысяч курушей. Закупщики из гарема платили за красавиц чуть дороже рыночной цены, представители общины накидывали еще несколько монет за каждую девушку. Торг шел яростный. Евреи должны были незамедлительно выкупить пленниц и таким образом соблюсти заповедь, волокита приравнивалась к кровопролитию, но, согласно предписаниям Талмуда, им запрещалось переплачивать, чтобы тем самым не возбуждать алчность продавцов и не провоцировать новые похищения. Галаха предписывала выкупать сначала мужчин и только потом — женщин, потому что проституция — удел женщины, но не мужчины. То, что пленники обоих полов подвергнутся насилию, у законников не вызывало сомнения. Казаки мужчин не крали, может, не были сведущи в еврейских законах, но, скорее всего, мужчины-евреи не представляли для них никакого сексуального интереса. Другое дело, перепуганные девушки, оказавшиеся против своей воли на казачьем фрегате в открытом море. Угроза бросить непокладистую пленницу за борт в набежавшую волну обычно смиряла сопротивление даже самых строптивых. Растерянные заплаканные девушки сходили на берег, стараясь ничем не выдать своей постыдной тайны, увы, заранее известной встречающим. Представители еврейской общины отсчитывали надлежащую сумму и уводили только что выкупленных молодых польских евреек навстречу новой жизни, а казаки грузили на свое судно дорогое инкрустированное турецкое оружие, конскую упряжь работы искусных ремесленников Османской Порты, штуки парчи, бархата и атласа, сафьяновую обувь, керамические расписные изразцы и пахлаву. Отлаженный эксклюзивный промысел процветал не один год, но иногда случались сбои.
Старшая дочь вдовца, резника Шломы, пропала год назад, поговаривали, что ее утащили казаки. Это случилось в Судный день, когда малочисленные мужчины местечка на голодный желудок молились в синагоге, и кто-то из женщин видел, как двое евреев выкрестов, из тех, что ушли жить в Сечь к казакам, приторочили ее к седлу, и как совсем мальчишка казачок Микита вскочил на коня и конь понес его с поклажей прочь. Через год Микита привез несчастному отцу письмо от дочери. Заслышав о письме, Шлома, как был — с ножом в одной руке и только что зарезанной курицей в другой, выскочил из резницы, приветствуя казака снопом перьев и брызгами куриной крови. Дочь писала о том, что живет она в Хаскойе, еврейском квартале Стамбула, что замужем, что в месяце таммузе у нее родился сын и мальчик, как положено, был обрезан на восьмой день жизни, что муж у нее инвалид, но добрый, и что она никак не может привыкнуть к здешней еде и готовит на субботу цимес, такой, как готовила дорогая покойная мама, да будет ее душа вплетена в связку жизни, а муж ее за это ругает. Резник бросился целовать гостю руки, на столе тотчас появилась горилка, казанок с тушеным мясом и черносливом и хала, оставшаяся от субботы. Дочь писала правду: община заботилась о сватовстве и замужестве выкупленных пленниц и снабжала их хоть и скромным, но все-таки, приданым. Рассчитывать на хорошую партию ни они, ни их потомки в нескольких последующих поколениях не могли. Никому бы не пришло в голову сватать их за сыновей уважаемых семейств, но на обочине жизни богатой стамбульской общины водилось много нежелательного люда: новообращенных, бывших преступников, калек, умственно отсталых и просто бедняков, за которых никто не хотел идти. Их-то и получали в мужья беременные от казаков польские еврейки.
В семье резника подрастала младшая дочь Ривка. В ее пятнадцать у нее уже три года как были месячные, и в эти дни цветы никли в ее присутствии и соленья скисали. Когда Микита впервые увидел ее девичье перепуганное лицо с широко открытыми голубыми(!) глазами и яркими веснушками, то испытал с трудом преодоленное желание заключить в объятия младшую, а не старшую сестру, которой тоже всего-то минуло шестнадцать и чей день свадьбы был назначен сразу после праздника Суккот. В засаде их ждали два перехрыста, и молодой казак не решился своевольно нарушить уговор, но теперь он зачастил в гости к резнику. Когда Шлома заметил щербинку на переднем зубе младшей дочери (не успела созреть, подумал, а уже вянет) и решил не тянуть и подыскать ей жениха, дочь уже была крещена в православную веру, обвенчана с Микитой и беремена. Молодые вынашивали план: Ривку похитят, продадут стамбульской общине, Микита получит свою долю и они славно заживут. Где? Найдется для них место под солнцем. Дружки уважили просьбу Микиты и во время плавания не покусились на его дивчину: ее рвало от морской болезни, и аппетита она ни у кого не вызывала. На борту среди девушек была пленница куда как интересней. Лея — красавица-еврейка с польским гонором. Перехрысты заманили ее на судно обманом, посулив девушке встречу с якобы оставшейся в живых матерью, в действительности зарубленной во время погрома, — и Лея поверила. За услугу они взяли всего ничего — только колечко с брильянтом. Перехрыстами звались евреи-выкресты, которые с семьями уходили жить в Запорожскую Сечь. Спасаясь от погромов, шли к погромщикам, похоронив убитых, шли к убийцам чтобы выжить самим. Так они кончали с непосильной, унизительной, жестокой еврейской судьбой. В Сечи занятий для них хватало: от врачевания и торговли до всех видов посредничества, и некоторые быстро обучались непривычному делу — владению оружием. «Чем человек виноват? — сказал жид Янкель из повести «Тарас Бульба». Там ему лучше, туда и перешел». Неполных три века спустя евреи из тех же мест шли в революцию, и это было легче — не требовалось креститься и порывать с еврейством. Евреи из черты оседлости уходили в революцию от унизительной судьбы, от невыносимой затхлости местечковой жизни, от уродливой нищеты, от гнетущей безнадежности, от накопившейся веками обиды, от беспомощности и страха. Да и как было устоять перед великим соблазном променять все это на власть? Тем более что идеи равенства и демократии не чужды иудаизму, и ребенок выносил их из хедера вместе с навыками диалектического мышления, словесной эквилибристики и вшами.
Лея, с детства ее звали Лалой за звонкий голос, была из богатой семьи, разоренной и уничтоженной погромами. Ее отец начинал управляющим, и со временем стал арендатором поместья и сельскохозяйственных угодий крупного шляхтича и поселился с семьей в господском доме. Хозяин жил в Варшаве, и отец с любимой дочкой несколько раз в году ездили к нему отчитываться в делах. Арендатор сам собирал подати с крестьян и во время погрома крестьяне голыми руками разорвали его на части. Старший брат Лалы изучал медицину в Падуе. За год до своей гибели отец возил ее туда навестить брата и показать Италию. Она, конечно, не зашла в собор, еврейка ногой не ступит в христианский языческий храм, да и что там, кроме голого распятого, можно увидеть? Хлеб итальянцы выпекают на свином масле — от одного запаха тошнота подступает к горлу. Ткани у них, правда, красоты сказочной, но сплошной шаатнез: кайма на шерстяном отрезе из хлопка, безобразие. Тамошние евреи не говорят ни на польском, ни на идише, бедняги. Незнание этих двух языков не помешало сыну местного торговца корабельным лесом посвататься к видной польской еврейке и получить отказ. Лала развернула вправо свою красивую голову с туго заплетенной косой так, что подбородок коснулся ключицы, и выбросила голову влево вверх, как будто наотмашь сказала «нет». Коса, хлестнув по спине, смирно улеглась меж ее лопаток. Это было не первое отвергнутое сватовство. Маринуй, маринуй свое лакомое блюдо, как бы, смотри, оно не скисло — судачили злые языки. Два других (тоже старших) брата учились в иешивах, один в Люблине, другой в Кракове. Оба погибли от казачьих сабель.