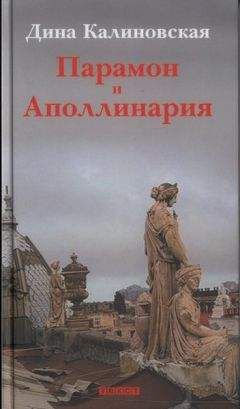Ханс-Ульрих Трайхель - Блудный сын
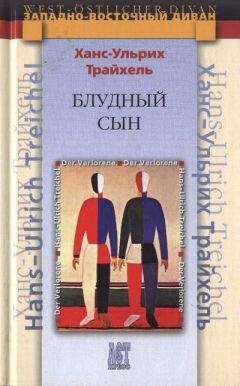
Обзор книги Ханс-Ульрих Трайхель - Блудный сын
Х.-У. Трайхель
Блудный сын: Повесть
Мой брат сидит на белом шерстяном одеяльце и улыбается в объектив камеры. Снимок сделан во время войны, рассказывала мама, в последний военный год, дома. Дома, значит, в Восточной Пруссии, мой брат родился там. Мама начинала плакать, как только произносила это слово — «дома». Точно также она принималась плакать, когда речь заходила о моем брате. Его звали Арнольд, как и отца. Арнольд был веселый ребенок, говорила мама, глядя на фото. Потом она замолкала, я тоже не произносил ни слова и только разглядывал Арнольда, который сидел на белом шерстяном одеяльце и радовался. Я не знаю, чему он радовался, в конце концов, тогда шла война, он был в Восточной Пруссии — и тем не менее чему-то радовался. Я завидовал этой его радости, завидовал тому, что у него было белое шерстяное одеяльце, завидовал месту, которое он занимал в семейном фотоальбоме. Его фото красовалось в самом начале, даже перед свадебными снимками родителей и перед фотографиями дедушки и бабушки, а я ютился где-то в самом конце альбома. Вдобавок фотография Арнольда была довольно большая, а снимки с моим изображением чаще маленькие, а то и вовсе крошечные. Меня родители щелкали так называемым любительским фотоаппаратом, похожим на ящичек, по-видимому, им можно было делать только маленькие карточки. Те из них, на которых был я, нужно было рассматривать очень пристально, чтобы вообще хоть что-то увидеть. На одной из них, например, была изображена купальня с множеством маленьких детей, среди них находился и я. Правда, видна была только моя голова, я тогда еще не умел плавать и сидел в воде, доходившей мне до подбородка. К тому же мою голову частично закрывал стоявший передо мной в воде ребенок, и на крошечном фото с моим изображением виднелась лишь часть моей торчавшей из воды головы. Мало того, видимую часть головы закрывала тень, вероятно, ее отбрасывал все тот же стоявший передо мной мальчик, так что в действительности от меня был виден только правый глаз. Так и выходило, что мой брат Арнольд, еще будучи сосунком, выглядел не только счастливым, но и значительной фигурой в семье, а я почти на всех фотографиях периода моего детства был виден лишь частично, а то даже и вовсе не был виден. Почти не видно меня, например, на снимке, сделанном во время моего крещения. У матери на руке лежит белая подушечка, поверх подушечки — белое покрывальце. А под покрывальцем лежу я, в этом нет сомнения, так как у нижнего края подушечки покрывальце сдвинулось и из-под него выглядывает ножка младенца. В известной степени все дальнейшие снимки, сделанные в моем детском возрасте, продолжили традицию этой самой первой фотографии, с той лишь разницей, что на позднейших фото вместо ножки виднелись то правая рука, то половина лица или, как на фото в купальне, только один глаз. Я бы смирился с таким частичным присутствием своей персоны в семейном альбоме, если бы мама не взяла в привычку без конца доставать альбом и показывать мне снова и снова помещенные в нем фотографии. Каждый раз это сводилось к тому, что маленькие и совсем крохотные, сделанные домашним «ящичком» фотографии, на которых был заснят я или отдельные части моего тела, разглядывались мельком, а вот фото, на котором в полный свой младенческий рост был изображен Арнольд, становились поводом для бесконечного любования. Кончалось это тем, что чаще всего я сидел с кислым выражением лица рядом с матерью на диване и недовольно глядел на радостного и веселого Арнольда, а она приходила каждый раз в неописуемое волнение. В первые детские годы меня мирили с этим ее слезы, но я задумывался, почему она часто плачет, разглядывая веселого Арнольда, и даже то, что Арнольд был мне вроде братом, а я его ни разу живьем так и не видел, волновало меня в те годы только как бы между прочим, к тому же я не без злорадства думал о том, что мне не приходится делить с ним свою детскую комнату. Но однажды мать рассказала мне кое-что о судьбе Арнольда. Она призналась, что он умер с голоду, когда они бежали от русских. «Умер с голоду, — сказала она, — умер у меня на руках». Да и сама она была на грани голодной смерти во время этого долгого бегства с востока на запад, у нее пропало молоко, да и вообще ничего не было, чем можно было бы покормить малыша. На мой вопрос, неужели в колонне беженцев ни у кого не было молока для ребенка, она ничего не ответила, как и на другие мои вопросы, касавшиеся обстоятельств их бегства и голодной смерти моего брата Арнольда. Арнольд, стало быть, был мертв, это само по себе было весьма печально, но облегчало тем не менее мое общение с его фотографией. Веселый и ладно скроенный Арнольд стал мне с тех пор даже симпатичен, я гордился тем, что у меня есть мертвый брат, который к тому же выглядит таким ладным и довольным. Я горевал по Арнольду и гордился им, делил с ним свою детскую комнату и желал ему столько молока, сколько его было на всем белом свете. У меня был мертвый брат, я чувствовал себя отмеченным знаком судьбы. Ни у кого из моих товарищей по детским играм не было мертвого брата, тем паче умершего голодной смертью во время бегства от русских.
Арнольд стал моим другом и остался бы им, если бы в один прекрасный день мама не вызвала меня, как она сказала, на «разговор по душам». Мама еще ни разу не просила меня поговорить с ней по душам, а отец и тем более. И вообще в мои детские и ранние юношеские годы меня никто никогда не вызывал на откровенный разговор, даже намека на это не было. Отец для объяснений со мной ограничивался коротким приказанием или указанием, как и что надо сделать по дому, а мама хоть и говорила со мной время от времени, но эти разговоры чаще сводились к Арнольду и заканчивались слезами или молчанием. Разговор по душам мама начала со слов, что я уже достаточно взрослый, чтобы узнать правду. «Какую правду?» — спросил я, испугавшись, что речь пойдет обо мне. «Я хочу рассказать тебе о твоем брате Арнольде», — сказала мама. Я почувствовал некоторое облегчение, что речь снова пойдет об Арнольде, но, с другой стороны, это меня разозлило. «Ну, что там опять с этим Арнольдом?» — спросил я, и глаза матери тут же наполнились слезами, после чего я невольно задал необдуманный вопрос, не случилось ли чего с Арнольдом, на что мама ответила удивленным взглядом. Но потом без всякой подготовки сказала: «Арнольд не мертв. И никогда не умирал с голоду». Теперь уже я удивился и почувствовал легкое разочарование. Но вместо того чтобы промолчать, я опять не долго думая спросил, отчего же тогда Арнольд умер. «Он вовсе не умер, — весьма спокойно, без малейших признаков волнения повторила мать, — он потерялся». И поведала мне историю о потерявшемся Арнольде, которую я понял только отчасти, не до конца. С одной стороны, эта история полностью совпадала с рассказом о мертвом, умершем голодной смертью Арнольде, с другой — это была совершенно новая история. Арнольд и впрямь страдал в колонне беженцев по пути с востока на запад от голода, у мамы и в самом деле не было ни молока, ни какой-либо другой еды для него. Но Арнольд не умер с голоду, а пропал, и маме было нелегко хотя бы приблизительно объяснить мне причину исчезновения моего брата. Насколько я понял, однажды во время бегства от русских случилось нечто ужасное. Что это было, мама не сказала, она только все время повторяла: во время бегства от русских случилось нечто ужасное и ни отец и никто другой не мог ей помочь, хотя в колонне беженцев на запад двигались тысячи людей. Долгое время казалось, что они преодолеют это расстояние без особого ущерба для себя и будут изо дня в день понемногу наращивать отрыв от наступающих русских, но однажды утром — они только покинули небольшую, расположенную к западу от Кёнигсберга деревушку — перед ними внезапно возникли русские. Они совершенно неожиданно вынырнули из утреннего тумана. Ночью беженцы ничего не видели и не слышали, ни гула моторов, ни стука сапог, ни криков «Давай! Давай!». И тем не менее они были тут. Где только что перед ними простиралось пустое поле, стояли тридцать или сорок вооруженных солдат, причем именно в том самом месте, где шли мать с отцом и маленьким Арнольдом. Русские ворвались в колонну беженцев и стали выискивать свои жертвы. Сразу поняв, что сейчас произойдет нечто страшное, так как один из солдат уже приставил винтовку к груди отца, мать едва успела передать ребенка на руки шедшей рядом с ней женщине, которую русские, к счастью, не стали задерживать. Все произошло так быстро и в такой панике, что она не успела сказать женщине ни слова, даже назвать имя маленького Арнольда, — та мгновенно исчезла в толпе беженцев. Самое страшное, сказала мама, так и не произошло, русские не расстреляли ни ее, ни отца. А именно этого они боялись в первую очередь, потому-то она и сунула маленького Арнольда в руки незнакомой женщине. Однако, с другой стороны, нечто ужасное все же произошло, призналась мама. «Нечто ужасное, — сказала она, — тем не менее все же произошло», — и снова заплакала. Я был уверен, что она плачет из-за Арнольда, и, чтобы утешить ее, сказал, что в конце концов она спасла Арнольду жизнь и ей не о чем плакать, но мама ответила, что жизни Арнольда ничто не угрожало. И жизнь отца тоже не подвергалась опасности, как и ее собственная жизнь. Должно быть, русские и вправду сотворили с ней нечто ужасное, не покушаясь при этом вовсе на ее жизнь или жизнь семьи. Русские с самого начала хотели от нее совсем другого. А она раньше времени испугалась за свою жизнь и жизнь ребенка и воистину поторопилась выпустить ребенка из рук Она даже не успела крикнуть женщине, как зовут Арнольда, — так велика была ее паника и неразбериха вокруг, да и та женщина только и успела прижать ребенка к себе и убежать подальше. «Арнольд жив, — сказала мать, — но у него теперь другое имя». «А вдруг ему повезло, — бездумно сказал я, — и они тоже назвали его Арнольдом». Мать в полном недоумении и с грустью посмотрела на меня, от стыда кровь бросилась мне в лицо. А я ведь только потому брякнул такое, что был зол на Арнольда. До меня только теперь дошло, что Арнольд, этот мой вовсе не мертвый брат, все время играл в семье главную роль, а мне всегда отводилась только роль второстепенная. Мне стало ясно, что именно Арнольд в ответе за то, что с самого начала я рос в атмосфере, отравленной чувством вины и стыда. Со дня моего рождения в семье царили вина и стыд, хотя я и не понимал, почему. Я знал только одно: что бы я ни делал, к этому всегда примешивалась определенная доля вины и стыда. К примеру, я постоянно испытывал это чувство во время еды, независимо от того, что лежало передо мной на тарелке. Жевал ли я кусок мяса, ел ли картошку, тем более десерт, во мне шевелились угрызения совести. Я был виноват уже тем, что ел, и стыдился оттого, что мог есть. Я совершенно отчетливо испытывал чувство вины и стыда, но никак не мог понять, почему я, обыкновенный невинный ребенок, должен испытывать это чувство из-за какого-то куска мяса или отварной картофелины. Не понимал я и того, почему мне бывает стыдно, когда я слушаю радио, катаюсь на велосипеде, гуляю с родителями или езжу с ними за город. Но именно прогулки или поездки с родителями на автомобиле, которые они устраивали, как правило, по воскресеньям, лежали особенно тяжким грузом на моей совести или вызывали во мне огромное чувство стыда. Когда я шел с отцом и матерью по главной улице нашего городка, я стыдился того, что гуляю с ними по главной улице. А когда мы уезжали на черном лимузине — отец приобрел автомобиль в благоприятные для его коммерческой деятельности времена — и направлялись в находившийся неподалеку Тевтобургский лес[1], я стеснялся и чувствовал себя виноватым из-за того, что мы едем в этот Тевтобургский лес. Когда мы наконец добирались до цели и всегда шли по одной и той же лесной тропинке, что вела к так называемой башне Бисмарка, я снова испытывал чувство стыда и вины, потому что мы всегда шли только по одной тропинке. Самой собой, это чувство не покидало меня и тогда, когда мы добирались до башни Бисмарка и поднимались на нее, чтобы с высоты взглянуть на равнину, где вдалеке виднелась колокольня нашей городской церкви. Прогулки и эти вылазки с родителями были для меня настоящим бедствием из-за накатывавшего чувства стыда и вины. При этом у родителей тоже был подавленный и измученный вид, и мне всякий раз казалось, что они просто принуждают себя совершать эти поездки. С другой стороны, им никогда и в голову не пришло бы отказаться от воскресных вылазок, ибо эти воскресные прогулки служили, во-первых, цели поддержания рабочей формы, а во-вторых, родители отдавали тем самым дань христианскому празднику Воскресения, но были уже изначально неспособны насладиться свободным временем и отдыхом. Сперва я объяснял себе эту неспособность их происхождением — пиетистски-швабским, с одной стороны, и восточнопрусским — с другой, так как знал по рассказам родителей, что ни пиетистски-швабский, ни восточнопрусский человек в принципе не в состоянии наслаждаться такими вещами, как свободное время и отдых. Но потом мне стало ясно, что эта их неспособность весело проводить свободное время и безмятежно отдыхать, как все, связана с моим потерявшимся братом Арнольдом и тем ужасным, что причинили им, в первую очередь маме, русские. Я, во всяком случае, вбил себе в голову, что от этих безрадостных поездок я страдал больше, нежели родители; они так и так были убеждены, что человек рождается на свет не для прогулок, а для работы, и потому уже сама мысль, что они тратят время на праздные поездки, не доставляла им радости. Я, напротив, любил прогулки и с удовольствием посвятил бы им все свое время. Правда, не таким, как с родителями. К этим прогулкам я начал постепенно испытывать отвращение, так что родители могли принудить меня сопровождать их только под угрозой наказания. Самым прекрасным наказанием, которым грозили мне родители, был домашний арест. Но наслаждаться воскресными домашними арестами мне довелось только после того, как я обзавелся особой формой болезни, проявлявшейся даже во время небольших поездок. Ее основным симптомом стала физическая непереносимость передвижений, при этом важным обстоятельством оказывалось то, двигался ли я сам, или же меня, так сказать, передвигали другие. Когда я двигался сам, например, на прогулках в нашем городке, у меня часто начинала кружиться голова, и мне приходилось присаживаться на скамейку. Если же меня «передвигали» на машине, меня тошнило. Чаще всего меня рвало во время прогулок на новом черном лимузине, тогда как поездки на стареньком серебристо-сером лакированном «форде», так называемом «горбатом таунусе», всегда проходили без осложнений. Старый «форд» был единственной машиной моего детства, в которой я ни разу не почувствовал себя плохо. Но отец продал ее, как только стал больше зарабатывать, и купил сперва модель «опель олимпия», а затем черный лимузин с акульими зубами на радиаторе. В «опель олимпии» меня рвало не регулярно, но все же часто. А вот в черном лимузине так каждый раз. Это означало, что не только я сам возвращался порой домой заблеванный, бледный и без сил, но и машину после очередной такой неудачной поездки приходилось основательно отмывать и проветривать, прежде чем в нее снова можно было садиться. В конце концов родители решили совершать воскресные поездки не на машине, а на поезде, курсировавшем между нашим городком и Тевтобургским лесом и потому носившим название «Тевтобургский лес». Меня, правда, тошнило и в вагоне «Тевтобургского леса», но скамейки в поезде были деревянные, и, кроме того, я мог, если успевал, добежать до туалета. Родители без труда примирились бы с моей рвотой в «Тевтобургском лесе», если бы не другие пассажиры, которых это шокировало, особенно когда мне не удавалось добежать до туалета и я блевал на пол или на скамейки. Наконец родители сдались, и я мог оставаться в воскресные дни дома один. Это самые приятные воспоминания моего детства. Чтобы быть точным: к самым прекрасным воспоминаниям детства относится прежде всего первый воскресный день, который мне разрешили провести дома одному. А еще точнее — совершено счастливым и свободным я чувствовал себя в первые четверть часа после ухода родителей. Когда эти четверть часа истекли, появилось гнетущее чувство подавленности и покинутости, от которого я пытался избавиться с помощью разного рода отвлекающих моментов. Один из них состоял в том, что я садился к открытому окну, закрывал глаза и старался по шуму моторов угадывать марки проезжающих мимо автомобилей. Со временем я настолько наловчился в этой игре, что узнавал большинство машин еще до того, как они приблизились к нашему дому. Правда, в ту пору большинство автомобилей представляли собой базисные модели VW и DKW[2]. Сложнее было с иностранными марками, но лишь очень редко, не сумев идентифицировать шум мотора, я открывал глаза и обнаруживал внизу машину, которую раньше никогда не видел. В этой игре я достиг такого совершенства, что угадывал марки почти девяноста процентов проезжавших машин, однако скоро мне это наскучило, и я вменил себе в обязанность отрабатывать каждое воскресенье только пятьдесят автомашин, а потом переходить к другому развлечению. Оно состояло в том, что я принимался упорно слушать радио, то есть часами сидел перед светящейся шкалой приемника и беспрерывно перескакивал с одной волны на другую. Слушать радио оказалось скучным занятием, но слушать его подолгу было еще скучнее. Можно сказать, я еще ребенком, задолго до появления телевидения, почувствовал, что радио — это тебе не телевизор. Радио не развлекало меня, оно всего лишь до известной поры отвлекало меня от подавленности и одиночества, пока я вдруг не наткнулся при бесконечных поисках станций на русские или, как мне показалось, по-русски звучащие слова. С одной стороны, меня поразило, что я в Восточной Вестфалии обнаружил русскую радиостанцию, но, с другой стороны, я знал из рассказов родителей, что от русских всего можно ожидать. И хотя я ни слова не понимал из того, что говорил русский диктор, тем не менее жадно вслушивался в эти чужие звуки. И чем дольше я прислушивался к русским словам, которые звучали то как приказы и инструкции, то вдруг напоминали меланхолическое песнопение, тем больше мне казалось, что я не только понимаю обрывки русской речи, я внушал себе, что слова этого русского имеют отношение ко мне и моей семье. Разумеется, я не был в этом уверен, но, сидя по воскресеньям в полном одиночестве перед радиоприемником, я не мог избавиться от мысли, что русские говорят о позоре и о том ужасном, что постигло нашу семью и особенно маму. Мне казалось, будто этим позором и ужасом полнится весь эфир. К счастью, дела отца шли успешно, и это позволило ему купить телевизор, а мне без труда избавиться от нагонявшего на меня страх радио, особенно русской радиостанции. Правда, отец, не имевший ничего против того, что я часами просиживал по воскресеньям перед радиоприемником, просто терпеть не мог, когда я столько же времени проводил перед экраном телевизора. Да, он купил телевизор, но физически не выносил, когда его включали. Так что включали телевизор только с разрешения отца, причем в любой момент он мог это разрешение отменить. Телевизор можно было включить только в том случае, если отец давал на то свое позволение, но делал он это с такой неохотой, а иногда и раздражением, что пропадало всякое желание его смотреть. Кроме того, отцу в любую секунду могло прийти в голову желание выключить телевизор, потому что ему надо было что-то сказать мне. Сказать то же самое при включенном телевизоре было для него делом абсолютно невозможным. И уж само собой разумеется, отцу, который вообще со мной почти не разговаривал и мог часами смотреть мимо меня, не произнося ни слова, припирало сообщить мне что-нибудь именно в тот момент, когда работал телевизор. Мало того, что ему был невыносим работающий телевизор, так он еще и терпеть не мог его выключать. Вместо этого он приказывал: «Выключи телевизор» или «Выключи ящик», и я стремглав вскакивал со стула и выключал его. То, что он потом говорил мне, сводилось к приказаниям что-либо сделать по дому. Ему вдруг приходило в голову, что надо подмести двор, отнести на чердак коробку с поношенной одеждой или домашней утварью, опустить письмо в почтовый ящик или доставить в учреждение какую-нибудь бумагу. Мне часто казалось, что отец при виде включенного телевизора думает только об одном — какую бы еще работенку мне поручить. Как только он присаживался к телевизору, его мозг тут же активизировался, лихорадочно придумывая для меня какое-нибудь занятие, так что в его присутствии мне ни разу не удалось досмотреть до конца ни одной передачи. И только в обществе своей старшей сестры Хильды, овдовевшей в войну и теперь частенько гостившей у нас, ему нравилось смотреть телевизор. Но если отец расценивал телевидение по принципу «Кто смотрит телевизор, тот не работает», то в глазах тети телевизор был изобретением дьявола, заставлявшим человека забыть пространство и время, заодно лишая его собственных четырех стен, отнимая у него всякую личную жизнь и целиком подчиняя своему влиянию. Тетя Хильда была самой страстной ненавистницей средств массовой информации, других таких людей я в своей жизни не встречал. Единственным печатным органом, которым она интересовалась, был еженедельный листок под названием «Наша церковь». Каждый четверг служитель церковной общины приходил к нам на кухню и, громко возвещая о том, что он принес церковный листок, клал его на кухонный стол. На местную газету тетя Хильда взирала только издали, да и в самом церковном листке ее интересовали лишь дни рождения старых людей и библейские изречения на каждый день недели. Этим изречениям она уделяла особое внимание. Приняв к сведению все дни рождения, она ежедневно штудировала библейское послание заново и делала именно то, чего ждали от нее издатели церковного листка: превращала их библейское послание в личный посыл для себя, читая и обдумывая его на протяжении всей недели. У тети Хильды было свое особое место за кухонным столом, и еженедельный листок лежал там всегда на одном и том же месте. Если к нам кто-нибудь заходил и видел на кухонном столе раскрытый церковный листок, он понимал, что тетя Хильда у нас в гостях. Вечера тетя Хильда, по обыкновению, тоже проводила за чтением церковного листка и за обдумыванием очередного изречения. До того дня, пока в доме не появился телевизор, все обходилось без проблем. Но телевизор внес смуту в душу тети Хильды. Он не просто мешал ей читать, он был орудием дьявола. Ведь телевизор вызывал в ней любопытство, что, в свою очередь, забавляло отца, который откровенно развлекался, видя, каким искушениям подвергается его набожная сестрица. Тетя разрешала для себя конфликт таким образом, что садилась к включенному телевизору задом. Она не смотрела на экран, она только слушала. А слушая, она не сводила глаз с отца, мамы и меня, наблюдая за тем, как мы смотрим телевизор. К тому, что тетя наблюдает за ними, родители относились равнодушно. Мне же казалось, что тетя не просто смотрит на меня, а видит меня насквозь. Она смотрела на меня, и я стыдился того, что она так на меня смотрит. Поворачиваясь к телевизору спиной, она превращала его в радио, что, вероятно, лучше соотносилось с ее религиозным чувством. Слушать радио дозволялось, тогда как смотреть телевизор считалось грехом. Тетя вслушивалась в голос, но оказаться во власти мелькающих картинок не желала. Тетя остерегалась картинок, в то время как на остальную часть семьи, особенно на маму и на меня, эти самые картинки воздействовали беспрепятственно. Отец же был неуязвим, поскольку в его мозгу беспрестанно работала одна, устойчиво невосприимчивая к мельтешащим картинкам программа: как организовать работу и кому ее поручить. Мама и я, напротив, усаживались перед телевизором так часто, как только могли, и больше всего любили, когда отца не было дома. Правда, совместное сидение перед телевизором доставляло удовольствие лишь до момента, пока на экране дело не доходило до интимных подробностей. Как только намечалась интимная сцена, мы оба, и мама и я, сидели перед телевизором, словно окаменевшие, а в комнате воцарялись такая стыдливость и такое смущение, что мы боялись дышать. Уже при самом невинном поцелуе я ждал лишь одного, чтобы фильм поскорее продолжился и избавил нас от этого гнетущего ощущения. Но нередко спасение не приходило, чувство стыда не отступало даже тогда, когда на экране уже не было никаких интимных сцен. Меня и маму вгоняло в краску то, что мы сидели перед телевизором вместе, вдвоем в полутемной комнате. Лица наши горели, и мы не решались даже шевельнуться. Сидя у телевизора, мы стыдились, хотя я и не понимал чего. Возможно, причиной того были вовсе не интимные сцены на экране, которые нас смущали, а наша обоюдная интимность перед телевизором. Возможно, все дело было в моем брате Арнольде. Когда напряжение достигало предела, мама выключала телевизор. Не произнося ни слова, она вскакивала, нажимала на кнопку и выходила из комнаты. Я не протестовал, я был рад, что она выключила телевизор, рад, что больше не буду чувствовать этот прилив крови к голове. Выключенный телевизор облегчал мое состояние, но мне становилось еще легче, когда мама выходила из комнаты и начинала заниматься домашними делами. Чем громче мама хлопотала по дому, тем меньше мучило ее чувство стыда и вины. Она и впрямь не занималась в таких случаях ничем иным, кроме своих обыденных домашних дел. Как и отец, которого тоже заботило только его собственное дело. Сначала это была платная библиотека с выдачей книг на дом, потом продовольственный магазин, а еще позже он занялся оптовой торговлей мясом и колбасными изделиями, явно находя облегчение в работе. Платная библиотека процветала всего несколько лет. Телевидение и наплыв дешевой книжной продукции положили ей конец. Продовольственный магазин продержался чуть дольше, но отцу этого было мало. Он хотел продавать колбасу не граммами, а килограммами и центнерами. В качестве владельца продовольственного магазина он сам был клиентом оптового торговца мясными и колбасными изделиями, который его не устраивал. Разузнав, что и другие владельцы продовольственных магазинов недовольны этим поставщиком, он решил сам стать оптовым торговцем. В торгово-промышленной палате он выправил соответствующие документы, посещал некоторое время вечерние курсы, сдал потом экзамен и получил диплом оптового торговца. Продовольственный магазин был сдан в аренду, белый халат продавца повешен на гвоздь, а вместо него куплен двубортный костюм. Отец использовал свое знакомство с владельцами окрестных продовольственных лавок, которые раньше были его коллегами, а теперь стали его клиентами. Они ему доверяли, так как считали своим, и он их не разочаровывал. Мало только поставлять хороший товар, надо еще уметь чувствовать заботы людей, говорил отец. Объезжая клиентов, он делал это в первую очередь для того, чтобы поговорить с ними об их трудностях. И книга заказов заполнялась как бы сама собой. А торговцев продовольственными товарами заботило многое. Вся жизнь этих людей была одна сплошная забота. Так, по крайней мере, казалось мне тогда: я сопровождал отца в его поездках к клиентам и прислушивался к разговорам, которые он вел с торговцами. Одной из главных забот была быстрая порча товара. Покупатели хотели иметь свежие продукты. Но то, что для клиента было свежим продуктом, становилось для продавца скоропортящимся товаром. Если покупателей было мало, продукты быстро портились. Если закупать товара меньше, могла возникнуть опасность, что клиентов не удастся обслужить как следует. Поэтому в очередной раз товар закупался с запасом, а запас порождал страх за сохранность товара. На торговцев продуктами постоянно давило время. Тикали часы, и с каждой минутой увядал салат, гнили бананы, становилась блеклой колбаса, стремительно разрасталась плесень. Если не было покупателей, торговец стоял посреди своих свежайших продуктов и смотрел, как они портятся. Большинство торговцев продуктами, к которым наведывался отец, были людьми, с одной стороны, загнанными, а с другой — очень печальными. Многие страдали расстройством желудка и поэтому весьма ограниченно пользовались тем набором продуктов, которые предлагали другим. У одного шалило сердце, у другого расшатались нервы. Я не помню ни одного торговца продуктами питания, у которого не было бы проблем со здоровьем. Еще одной проблемой была конкуренция. «Конкуренция оживляет торговлю», — любил говорить отец, выходя из одной продовольственной лавки и направляясь в другую, находившуюся за углом. Выслушивая жалобы очередного продавца на своих коллег, он уже не говорил, что «конкуренция оживляет торговлю», а изрекал: «Жизнь — это борьба» — или что-нибудь в этом роде. Еще одним больным местом торговцев продовольственными товарами были покупатели. «Нет покупателей — нет оборота», — комментировал отец, если продавцы начинали жаловаться на клиентуру. Случалось, однако, что продавцы возражали ему: «Покупатель — далеко не гарант оборота». Ибо покупатели, особенно покупатели продовольственных товаров, — люди чрезмерно разборчивые, весьма чувствительные, нередко очень жадные и к тому же нерешительные. Я еще готов мириться с требованием покупателя взвесить ему сто граммов сервелата с точностью до одного грамма, говорил один из продавцов. Но меня просто достают те из них, что подолгу топчутся перед витриной, но так и не решаются что-нибудь купить. Среди покупателей есть такие, жаловался другой продавец, которым доставляет особенное удовольствие терзать меня, в итоге так ничего у меня и не купив. Всякий раз, когда ему казалось, что они уже выбрали не кровяную колбасу, а охотничью, они снова шли на попятную и отказывались от нее, но в то же время не решались взять ни кровяную, ни какую-либо другую варено-копченую колбасу. Такие покупатели сильно действуют на нервы, к тому же заставляют ждать других покупателей, которые тоже хотят, чтобы их обслужили. С ним и такое бывало, рассказывал третий продавец, когда один из покупателей стал громко жаловаться на другого, слишком долго выбиравшего, что ему купить, тогда тот обиделся и выбежал из лавки, а жалобщик тем временем сам надолго застрял перед витриной и застопорил весь процесс торговли. Но хуже всех были те, которые сперва долго не решались что-нибудь купить, а потом покупали в мизерных дозах, прося взвесить им пятьдесят граммов пивной колбасы и пятьдесят граммов сервелата, давая одновременно понять, что это может быть и меньше, например сорок граммов, хотя и не обязательно, так ведь и с ума можно сойти. Временами он казался себе аптекарем, с такой точностью требовалась от него дозировка колбас или сыра, прежде чем положить их на весы. Удрученность торговцев так действовала на меня, что я, сам того не замечая, переносил эту их тоску на товары и вплоть до своих зрелых лет воспринимал продукты питания как нечто само по себе очень грустное. Особенно волновали меня свежие, то есть скоропортящиеся, продукты, и даже годы спустя я удивлялся той грусти, которая находила на меня перед прилавком с овощами или колбасной витриной. Напротив, моего отца вид витрины со свежей колбасой приводил в эйфорическое состояние. Особенно если это были его поставки. Но тут, вероятно, сказывалось и его крестьянское происхождение: мясо и колбаса не являлись для него остаточными формами забитого животного, а были чем-то в высшей степени живым. В отличие от торговцев продовольственными товарами, его настраивали на веселый лад именно так называемые скоропортящиеся мясные продукты. Его любимым кушаньем была свежая отбивная котлета. Свежая отбивная была для него все равно что глоток свежего воздуха или свежей воды. Но еще милее свежей отбивной была ему свежая свиная голова, которая, правда, появлялась на столе только дважды в году — весной и осенью и которую отец сам привозил домой от крестьянина, одного из своих поставщиков. Когда отец входил в дом со свежей, то есть только что отделенной от туловища, еще кровоточащей свиной головой, завернутой в пергаментную бумагу, вся семья должна была собраться на кухне, чтобы полюбоваться ею. Для меня все свиные головы были похожи одна на другую, для отца же каждая из них имела свои особые приметы. Случалось и так, что он, положив свиную голову на кухонный стол, с видимым удовлетворением говорил: «На сей раз нам досталась особенно прекрасная голова». На мой вопрос, чем особенно прекрасным эта свиная голова отличается от другой, менее прекрасной, отец отвечал, что красивая, а следовательно, и прекрасная свиная голова — это равномерно сформировавшаяся голова, в то время как менее красивая — голова, созревшая неравномерно. Кроме того, добавлял он, по голове свиньи можно судить о всей свинье, поэтому красивая голова обязательно принадлежала красивой, то есть гармонично развивавшейся, свинье, с оптимальным сочетанием жира и мускулатуры. Частью свиной головы была кровь. Свиная кровь была для отца столь же важна, как и сама свиная голова. «Свиная кровь — сок жизни», — говорил отец, и если бы это зависело от него, он предпочел бы быть вскормленным не молоком матери, а свиной кровью. Кровь перевозилась в жестяных бидонах, ее нужно было как можно быстрее доставить из крестьянского хозяйства в родительский дом. Если отец бывал занят, доставить свиную кровь в дом становилось моей обязанностью. Обычно перевозка крови меня не очень затрудняла, тем более что я с удовольствием бывал в крестьянских домах: там, прежде чем попадешь в жилые помещения, надо было сначала пройти мимо животных. Но задача затруднялась тем, что кровь, которую мне предстояло везти домой, выливали в бидон прямо из свиньи. Мне не раз приходилось видеть, как переливают в бидон коровье молоко, но я совершенно не знал, каким образом попадает в бидон свиная кровь. А попадала она туда таким ужасным образом, что я смог наблюдать за этим только один-единственный раз, а в последующие поездки старался задержаться на кухне крестьянина, пока бидон наполняли кровью. Уже один вид дико визжащей и дергающейся свиньи, у которой из надрезанной сонной артерии фонтаном била кровь, так напугал меня, что я с большой неохотой принимал участие в регулярных поеданиях свиной головы и, будь на то соизволение отца, с радостью отказался бы от этих пиршеств вообще. Я переносил бы их с меньшим трудом, если бы речь шла только об одном застолье. Но мама удивительным образом умудрялась наготовить из свиной головы столько блюд, что мы долго питались ими. Свиная голова оказывалась настоящим рогом изобилия, из которого так и сыпались самые разные кушанья: свиные щеки и свиной язык, свиные уши и свиной пятачок, бульон из свиной головы и свиной паштет. Все это коптилось или зажаривалось на решетке, варилось или тушилось на плите, вялилось или консервировалось с добавлением свиной крови, из чего потом готовили суп или делали кровяную колбасу, использовали как начинку для пирогов, а кровь заливали еще в стеклянные банки и употребляли в загустевшем состоянии в пищу как кровянку. Выходило, что весенней свиной головы нам хватало почти до самой осени, а осенней опять-таки почти до весны, так что мы практически весь год питались продуктами, приготовленными из свиной головы и свиной крови. А самым праздничным лакомством был свиной мозг, его подавали на стол в тот же день, когда отец доставлял домой голову, а я — кровь. Это был наш, так сказать, домашний праздник по случаю убоя свиньи, на который приглашались гости и который уже поэтому имел для отца особое значение, так как напоминал ему дни забоя скота на крестьянском дворе его родителей. Отец должен был унаследовать хозяйство родителей и тоже стать крестьянином, так что по крайней мере в тот день, когда вся семья вместе с гостями собиралась за свежеприготовленными свинячьими мозгами, он себя таковым и чувствовал. «Ешь мозги — умнеешь», — говорил отец, после чего я даже надеяться не смел, что меня избавят от этого кошмара, ибо, по мнению моего родителя, мне как раз и недоставало изрядной порции мозгов. Правда, иногда он проявлял великодушие и освобождал меня от необходимости хлебать суп или жевать пирог с кровянкой, но что до мозгов, то тут он не знал никаких компромиссов. Однако я должен признать, что, хотя меня и воротило от этих мозгов, я все же охотно участвовал в вечерних свинячьих пиршествах, так как в нашем доме никогда не бывало столько веселья и рас