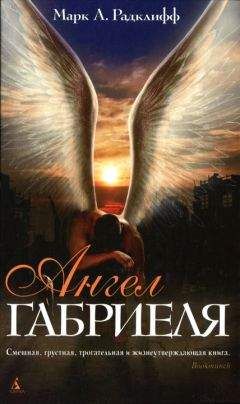Эрик Орсенна - Долгое безумие
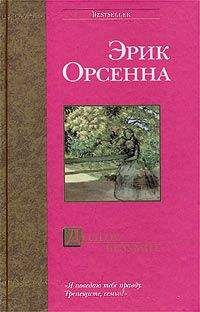
Обзор книги Эрик Орсенна - Долгое безумие
Эрик Орсенна
Долгое безумие
Посвящается моей матери и моему отцу, двум бесстрашным бойцам любовного фронта.
Человек, рождаясь, отдается мечте, словно падает в море.
Я тоже свалился в мечту, как в море.
И меня унесло волной.
А иначе я бы не оказался в саду Полного света в окружении гигантских бабочек-лун нежных зеленоватых тонов (Actios selene), не покачивался бы в кресле-качалке, чувствуя постоянное присутствие очень пожилой и очень любимой женщины в морщинах и рябинах и гордясь тем, что прожил жизнь согласно предначертанию. Пожалуй, мне завидуют сами отцы-иезуиты.
Звать меня Габриель. Я еще вполне крепок, несмотря на свой ветхозаветный возраст, в здравом уме и памяти, как ты убедишься.
Итак, еще раз: звать меня Габриель, я сын Габриеля, каучукового короля, которого уже нет в живых. Не стану вдаваться в генеалогические подробности, скажу только, что нам с отцом предшествовали и другие Габриели. И среди них — первый директор «Радио-Гавана» на Кубе, а раньше — лакей князя де Линя[2], счастливейшего из людей XVIII века — века, в котором счастья было хоть отбавляй. Когда-нибудь я поведаю и о них, если Бог отпустит мне еще какой-то срок.
Конечно, и под другими именами можно вести почтенное и даже не лишенное поэтичности существование. Но наши жизни, жизни Габриелей, наполнены некой свободой, легкостью, тягой к странствиям, в которых угадывается влияние нашего ангела-хранителя[3]: он не дает нам быть как все и просто ходить по земле.
Как еще объяснить наши судьбы, такие непохожие на другие?
А вот внешне мы ничем не примечательны. И я не исключение: ростом ни велик, ни мал, сероглаз, хотя на солнечном свету и с известной долей снисходительности меня можно назвать и голубоглазым, слаб грудью, особенно с наступлением осени…
Речь пойдет о любви, о ней одной, о сорока годах небывалой любви. В Париже, Пекине, Севилье, Кенте и Фландрии.
Пропади я пропадом, провались сквозь землю, вот тебе крест — я расскажу тебе все, даже то, о чем невозможно рассказывать. Я поведаю тебе правду. Трепещите, семьи!
На пороге нового тысячелетия я опишу неукротимое и вышедшее из моды живое существо — чувство.
Почему я вспомнил об отцах-иезуитах? Дай мне срок. Будет тебе объяснение. А пока просто поверь и мне, и им. Уж они-то знают толк в великом. Их головы забиты чем угодно, только не мелочным. Вспомни об их устремлениях: безграничная власть, геополитические цели, столкновение цивилизаций лбами, битва за небо…
Ботанический сад
I
Жил-был в середине 60-х годов XX века человек, старающийся быть как все. Под этим он подразумевал быть раз и навсегда женатым и ни в коем случае не походить на своих предков, чья любовная жизнь была чрезвычайно бурной, разнообразной и мучительной.
Дабы привести в исполнение сей незаурядный замысел, он окружил свой брак надежными мерами предосторожности.
Бесповоротно порвал со своим отцом, боясь заразиться от него. Не читал романов. Кино смотрел редко.
Избегая риска, стороной обходил места, навевающие мысли об отъезде: книжные магазины, специализирующиеся на продаже книг с морской тематикой, антикваров, торгующих экзотическими ценностями, бельевые лавки. Никакая географическая карта не украшала его жилья.
В главные свои союзники он избрал профессию садовника, создателя ландшафтов, и она стала для него заводиком, ежедневно вырабатывающим стимулы к оседлой жизни.
Призвание он ощутил в себе очень рано, в возрасте четырнадцати лет. В тот день, когда на его глазах взрослые рвали друг друга на части из-за очередной постельной истории. Чтобы не слышать их голосов, не видеть слез, он отправился в парк того города, где жил тогда, — Биарицца. В парке с его пустынными аллеями, воздухом, окрашенным лучами заходящего солнца в розовые тона, ему открылась очевидная, неоспоримая истина: растениям стыдно за людей. Они тоже появляются на свет, живут и умирают. У них тоже свои радости и невзгоды. Но они не считают возможным призывать Небо в свидетели и отравлять атмосферу стенаниями и проклятиями. С них довольно того, что они живут.
Жизнь растений так же разнообразна, оживленна и полна тревог, как и человеческая. Однако подает нам пример благопристойности и терпеливого молчания.
С этого дня он оставил футбольные сражения ради крошечного куска земли, заросшего бурьяном, чем вызвал презрение со стороны приятелей. На луковицы цветов и семена променял Александра Дюма со всеми его мушкетерами и углубился в каталоги растений. Настольной книгой, которую он читал на ночь, стал древний фолиант, подаренный дедушкой: «На поприще сельскохозяйственных работ и землепашества». Его автор, Оливье де Сер, пережив жесточайшие гражданские смуты XVI века, возвращал Франции вкус к мирной жизни посредством любви к земле. Трудно вообразить что-либо более навевающее сон, чем страницы, посвященные сезонным полевым работам или уходу за птичником.
Двадцать шесть лет спустя наш герой мог лишь поздравить себя с тем, что его выбор пал на ботанику. Но при условии никогда не оставаться наедине с незнакомкой, особенно по весне, когда все наливается соками, и летом, когда от пота липнут к телу платья из набивной ткани. В остальном садоводство было лучшим сообщником брачных уз.
Таким был этот человек, как все, в день святого Сильвестра[4] 1964 года, довольный своей судьбой и гордый своими успехами.
«Мне пошел пятый десяток, наступает пора зрелости. Брак мой уже три года назад переступил черту семилетия, то есть опасного момента. Безумие моих предков отныне не властно надо мной. Я не стану, подобно им, скакать с одного края планеты на другой. Не стану шалеть от вида сногсшибательных красоток. Хоть один из Габриелей будет вести достойное существование».
Думая так, он слегка прихлопывал рукой по воздуху, словно отгоняя зловредных предков.
«Поздно, друзья мои, я от вас ушел. Ищите другого, чтобы передать свои гены».
Чинно-мирно отпраздновали наступление Нового года: в кругу близких друзей и их изрядно размалеванных жен, с кроликом по-королевски под Далиду и Пресли, с поцелуем под елкой. Больше, собственно, добавить нечего.
Настоящая жизнь началась со следующего дня.
Наш герой не любил новогоднего праздника. С самого утра 1 января, приходя в себя после ночных возлияний и глядя, как сквозь занавески в спальню просачивается грязноватый свет, он чувствовал в атмосфере нечто тревожное, искушающее, какую-то неясную, но весьма ощутимую угрозу. Не дожидаясь, пока им овладеет тоска, он вставал и одевался. Жена спала, улыбаясь во сне и сжав кулачки, как дети, которых, возможно, она однажды понесет. Габриель подметил, что она не так любила сами праздники, как воспоминания о них. Чем дальше был праздник, тем больше ей представлялось, что она была счастлива на нем. Он целовал ее в лоб и отправлялся бродить по городу до самого вечера. Возвращаясь, он заставал ее за обжигающим чаем. Это был ее новогодний ритуал. Он изнурял себя прогулкой, она с пробуждения до отхода ко сну пила чай. У каждого был свой способ сопротивляться первоянварскому выпадению из размеренной жизни.
Было ли это плодом его больного воображения, но в то утро 1 января 1965 года Париж показался ему то ли портом, то ли вокзалом. Тротуары превратились в платформы и причалы, а прохожие — в путешественников, готовящихся к дальнему плаванию. Вон та женщина, под предлогом покупки хлеба вышедшая из дому на улицу Линна, явно оставила своих домочадцев. А это такси на улице Жофруа-Сент-Илер — не было надобности открывать забившие его чемоданы и сундуки, чтобы удостовериться: оно бесповоротно держало путь на юг. И ведь неспроста, прислонившись спиной к фонтану Кювье, читал клошар «Паризьен либере»[5], да еще страницу вакансий: явно чтобы уже с завтрашнего дня покончить с шатким и низким положением, которое ему стало невмоготу. А что это за белый силуэт, маячивший на балконе седьмого этажа клиники Ласепед? Верно, больной, измученный недугом и решивший до наступления вечера прыгнуть вниз, только бы не влачить жалкое существование до следующего Нового года.
Габриелю вдруг открылась польза сочельников: напиваются вовсе не для того, чтобы отпраздновать наступление Нового года, а чтобы заглушить в душе дурные голоса, нашептывающие одно и то же: а что, если воспользоваться этим днем и все изменить?
Первый день Нового года губителен для морали. Папе Римскому стоит заняться этим вопросом, реформировать календарь, упразднить месяцы и года. Оставить следует лишь дни. От этого выиграет семья.
В лихорадочном состоянии, с трясущимися руками и струящимся по вискам потом, Габриель толкнул решетчатую калитку Ботанического сада.
Прежде, будучи студентом, он много времени проводил на этом чудесном островке посреди Парижа. Ковчег, плывущий в городском гризайле[6]) — живопись, выполненная оттенками одного цвета, обычно серого или коричневого.], был гораздо полнее, чем Ноев, поскольку к животным, ведущим свое начало от Сотворения мира, собранным в Музеуме — от амебы до голубого кита, — добавлялись еще и растения, от Campanula rapunculoides до гигантского кедра, посаженного в 1734 году, чье семя было подарено Бернару де Жюсье[Жюсье Бернар (1699—1777) — из знаменитого французского рода, давшего Франции ботаников и врачей; был профессором ботаники в Королевском саду Версаля, привез из Англии два ливанских кедра, один из которых и поныне растет в парижском Ботаническом саду.] английским врачом Коллинсоном.