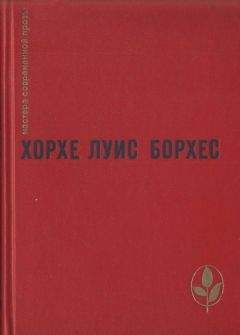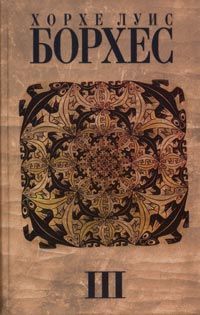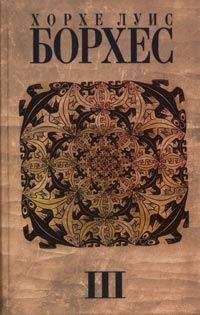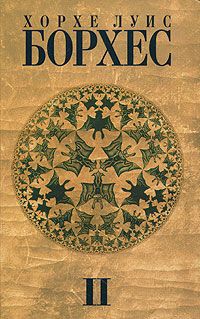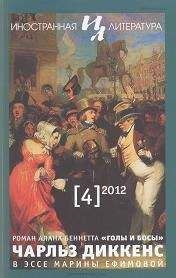Хорхе Борхес - Заир

Обзор книги Хорхе Борхес - Заир
Хорхе Луис Борхес
ЗАИР[1]
В Буэнос-Айресе Заир — обычная монета достоинством в двадцать сентаво; на той монете навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы N и Т и цифра 2; год 1929-й выгравирован на аверсе. (В Гуджарате в конце XVIII века Захиром звали тигра; на Яве — слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями; в Персии Захиром называлась астролябия, которую Надир-шах велел забросить в морские глубины; в тюрьмах Махди году в 1892-м это был маленький, запеленутый в складки тюрбана компас, к которому прикасался Рудольф Карл фон Слатин; в кордовской мечети, согласно Зотенбергу, это была жилка в мраморе одной из тысячи двухсот колонн; в еврейском квартале Тетуана — дно колодца.) Сегодня тринадцатое ноября; а седьмого июня, на рассвете, в руки мне попал Заир; теперь я уже не тот, каким был тогда, хотя еще в состоянии припомнить, а возможно, даже и рассказать о случившемся. Пока еще, хотя бы отчасти, я остаюсь Борхесом.
Шестого июня умерла Теодолина Вильяр. До 1930 года ее портреты заполоняли светские журналы; возможно, обилие их способствовало тому, что ее считали красивой, хотя не все ее изображения безоговорочно подтверждали эту гипотезу. Впрочем, Теодолина Вильяр не столько заботилась о красоте, сколько о совершенстве. Евреи и китайцы разработали жесткие правила на все случаи жизни; в Мишне мы читаем, что в субботу после наступления сумерек портной не должен выходить на улицу с иглой; в Книге обрядов говорится, что гость первый бокал должен пить с серьезным видом, а второй — с почтительным и счастливым. Подобным же образом и даже более скрупулезно соблюдала разнообразные правила и ритуалы Теодолина Вильяр. Словно приверженец учения Конфуция или Талмуда, она стремилась к безупречной правильности каждого поступка, и старания ее были тем упорнее и тем более достойны восхищения, что критерии, которыми она руководствовалась, не являлись вечными, но зависели от прихотей Парижа или Голливуда. Теодолина Вильяр появлялась в положенных местах, в положенное время, со всеми положенными для данного случая атрибутами и, как положено, с видом человека, уставшего от всего этого; однако вскоре и этот вид, и атрибуты, и час, и места, совсем еще недавно считавшиеся положенными, выходили из моды, и тогда они незамедлительно начинали служить (в устах Теодолины Вильяр) символом дурного тона. Она, как Флобер, искала абсолюта, но искала его в мимолетном. Жизнь ее была образцово-показательной, и тем не менее изнутри ее безостановочно грызло отчаяние. Она то и дело пускалась в метаморфозы, будто желала убежать от себя самой: и цвет ее волос, и прически беспрестанно менялись. Точно так же меняла она улыбку, цвет лица, разрез глаз. С 1932 года она, бросив на это все силы, стала худой… Война заставила ее о многом задуматься. Париж оккупирован немцами — как в таких условиях следовать моде? Один иностранец, а к иностранцам она всегда относилась подозрительно, позволил себе злоупотребить ее доверием и продал ей некоторое количество шляпок с плоской тульей; не прошло и года, как выяснилось, что эти нашлепки никогда не носили в Париже, а следовательно, они были не шляпками, а чьим-то ни на чем не основанным и никем не освященным капризом. Беда не приходит одна; доктор Вильяр вынужден был переехать на улицу Араос, и портрет его дочери стал украшать рекламу кремов и автомобилей. (Кремов, которыми ей теперь приходилось пользоваться в огромных количествах, и автомобилей, которых у нее больше не было!) Она знала, что успешно упражняться в любимом искусстве можно лишь с очень большими деньгами, и предпочла удалиться от света. Кроме того, ей претило состязание с пустыми, ничтожными девицами. Мрачная конура на улице Араос оказалась слишком дорогой; и шестого июня Теодолина Вильяр допустила промашку — умерла в самом сердце Южного квартала. Надо ли признаваться, что я, движимый наиболее искренней из всех аргентинских страстей — снобизмом, был влюблен в нее и, узнав о ее смерти, не мог сдержать слез? Читатель, наверное, и сам успел догадаться об этом.
После смерти лицо покойного, меняясь под действием разложения, приобретает прежние черты. В какой-то момент той приведшей меня в смятение ночи шестого июня Теодолина Вильяр, точно по волшебству, вдруг стала такой, какой была двадцать лет назад; черты ее вновь обрели властность, которую придают высокомерие, деньги, молодость, сознание, что ты венчаешь иерархическую пирамиду, недостаток воображения, ограниченность, глупость. Я думал примерно так: ни одно из выражений этого лица, так меня волновавшего, не может запасть в память глубже, чем это; а потому пусть оно станет для меня последним, раз оно было и первым. Я оставил ее застывшей в цветах, продолжавшей с помощью смерти совершенствовать мину полного презрения. Было часа два ночи, когда я вышел на улицу. Ряды низеньких, одноэтажных домиков, которые я и ожидал увидеть, приняли тот отвлеченный вид, какой бывает у них ночью, когда темнота и безмолвие делают их еще проще, чем они есть. Я побрел, опьяненный почти безличной жалостью. На углу улиц Чили и Такуари я увидел еще открытый альмасен. В этом альмасене, на мою беду, трое мужчин играли в карты.
В фигуре, носящей название оксиморон, слово снабжено эпитетом, который как бы противоречит смыслу этого слова; так, гностики говорили о темном свете, алхимики — о черном солнце. Равным образом и для меня выпить водки в жалком альмасене после того, как я видел Теодолину Вильяр в последний раз, было своего рода оксимороном; главное искушение состояло в том, что это было грубо и доступно. (Контраст усугублялся тем, что рядом играли в карты.) Я спросил апельсиновой водки; на сдачу мне дали Заир; я поглядел на монету и вышел на улицу, кажется, у меня начинался жар. Я подумал, что нет монеты, которая не была бы символом всех тех бесчисленных монет, что сверкают в истории и в сказках. Я вспомнил монету, которой расплачиваются с Хароном; обол, который просил Велисарий; тридцать сребреников Иуды; драхмы куртизанки Лаис; старинные монеты, предложенные спящим из Эфеса, светлые заколдованные монетки из «1001 ночи», которые потом стали бумажными кружочками; неизбывный динарий Исаака Лакедема; шестьдесят тысяч монет — по одной за каждый стих эпопеи, — которые Фирдоуси вернул царю, потому что они были серебряными, а не золотыми; золотую унцию, которую Ахав велел прибить на мачте; невозвратимый флорин Леопольда Блума; луидор, который близ Варенна выдал беглеца Людовика XVI, поскольку именно он был отчеканен на этом луидоре. Как бывает во сне, мысль о том, что любая монета дает основание для столь замечательных наблюдений, показалась мне необыкновенно, хотя и необъяснимо важной. Я еще быстрее зашагал по пустынным улицам и площадям. И, выбившись из сил, остановился на углу. Я увидел многострадальную железную решетку; за ней — черно-белый плитчатый пол портика монастыря Непорочного Зачатия. И понял, что очертил полный круг и снова оказался в десяти шагах от альмасена, где мне дали Заир.
Я свернул за угол и издали по темноте, окутывавшей дом, догадался, что лавка заперта. На улице Бельграно я взял такси. Спать совсем не хотелось; одержимо, чувствуя себя почти счастливым, я думал о том, что нет не свете вещи менее материальной, нежели деньги, ибо любая монета (скажем, монета в двадцать сентаво) на деле представляет собой целый набор всевозможных вариантов будущего. Деньги абстрактны, твердил я, деньги — это то, что будет. Они могут стать загородной поездкой, а могут — музыкой Брамса, могут обратиться картой, а могут — шахматами, или чашкой кофе, или поучением Эпиктета о презрении к золоту; это Протей еще более переменчивый, чем Протей с острова Фарос. Это время, которое невозможно предвидеть, время Бергсона, а не жесткое время Ислама или стоиков. Детерминисты отрицают, что в мире могут существовать отдельные друг от друга события, id est[2] что события могут свершаться сами по себе, монета же символизирует для нас свободу воли. (Я и не подозревал, что эти «мысли» специально плелись против Заира и были первым проявлением его демонического влияния.) Устав от напряженного мудрствования, я заснул, и мне приснилось, что я превратился в монеты, которые охраняет гриф.
На следующий день я решил, что был пьян. И все-таки задумал избавиться от монеты, так меня беспокоившей. Я стал ее разглядывать: ничего особенного, разве что царапины, нанесенные ножом. Лучше всего было бы зарыть ее в саду или спрятать где-нибудь в библиотеке, но мне хотелось сойти с ее орбиты. И я надумал потерять ее. В то утро я не пошел в церковь Святой Пилар и не был на кладбище, а поехал на метро к площади Конституции, оттуда — на Сан-Хуан и Боэдо. Сошел, не размышляя, на станции Уркиса, пошел на запад, потом на юг; не выбирая дороги, несколько раз сворачивал и наконец на улице, которая показалась такой же, как все остальные, вошел в первую попавшуюся лавку, попросил рюмку водки и расплатился Заиром. Щуря глаза за темными очками, я старался не видеть номера домов и названия улиц. Перед сном я принял таблетку веронала и ночь проспал спокойно.