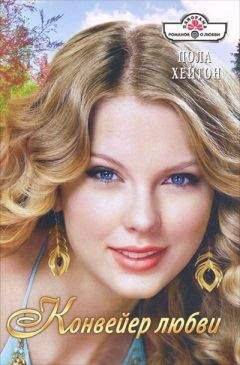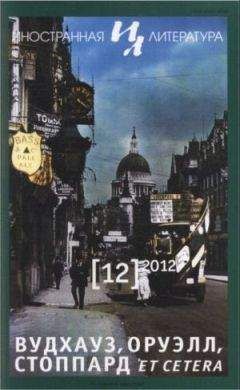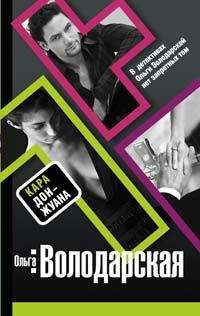Хилари Мантел - Запятая
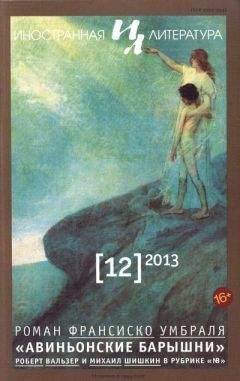
Обзор книги Хилари Мантел - Запятая
Хилари Мантел
Запятая
Рассказ
У меня и сейчас перед глазами эта картинка: Мэри Джоплин ползет через кусты врастопырку, так что юбчонка чуть не рвется у нее на бедрах. То лето было особенно жарким, но Мэри умудрилась подхватить насморк, и ее излюбленным занятием было тереть кончик вздернутого носа тыльной стороной ладони и глубокомысленно рассматривать оставшийся на руке блестящий след, как от улитки. Мы обе нередко сидели на корточках, спрятавшись по самую макушку в высокой траве, которая сначала приятно щекотала, а к концу лета огрубела и больно царапалась, вырезая на наших голых загорелых ногах белые полосы, как татуировки у дикарей. Иногда мы вдруг подскакивали, как две стрелы, выпущенные из невидимого лука. И начинали упорно продираться сквозь высокую траву, раздвигая ее руками, помаленьку приближаясь туда, куда хотели попасть и куда нам было нельзя. А затем, как по команде, снова падали на землю и зарывались с головой в густую траву, чтобы спрятаться от всего мира и даже от самого Бога, который, может быть, вот сейчас обозревал свои поля.
Схоронившись в траве, мы разговаривали. Я была немногословна, мне было восемь, мои шортики в черно-белую клеточку были как раз впору год назад, а теперь уже явно малы. Мэри тараторила как сорока, хихикала и шмыгала носом: руки страшно тощие, ноги разукрашены синяками и ссадинами, коленные чашечки словно два блюдца, вшитые под кожу. В два «крысиных хвостика» кто-то (возможно, она сама) вплел мятую белую ленточку, которая ближе к вечеру всегда так неуклюже сползала набок, что голова Мэри напоминала небрежно перевязанный сверток.
— А у тебя семья богатая? — спросила меня Мэри однажды.
Такой вопрос меня весьма удивил.
— Да нет, вроде бы… Так, серединка на половинку. А у тебя?
Она глубокомысленно помолчала.
— Наверно, тоже серединка на половинку. — И она улыбнулась: теперь мы были равны.
Бедность — это когда ты жалобно воздеваешь голубые глаза и протягиваешь кружку для подаяния. Маленькая попрошайка. Все твое платье усеяно пестрыми заплатками. Живешь ты в книжке сказок с картинками, посреди леса, в домике с соломенной крышей, которая постоянно протекает. Иногда, взяв корзинку, накрытую лоскутным платком, ты идешь навестить бабушку. А домик у тебя пряничный.
Но я к бабушке всегда ходила с пустыми руками, просто чтобы «составить ей компанию», хоть и не очень понимала, что это значит. Иногда я сидела и рассматривала обои, пока бабушка не отправляла меня домой. Иногда она давала мне лущить горох. Иногда заставляла держать пряжу, пока сматывала клубок. А когда я по рассеянности опускала руки, она сердито на меня покрикивала.
— Я устала, — говорила я.
— Будто ты знаешь, что такое «устала»! — ворчала бабушка. — Устала она! Вот отшлепаю как следует, тогда узнаешь!
Но на самом-то деле я все время думала о Мэри Джоплин. Я не смела упоминать ее имя, и от этого моего молчания она словно бы становилась еще тоньше, худенькой, истощенной, бесплотной тенью, так что я уже и не знала, существует ли она вообще, когда меня нет рядом. Но на следующий день, когда с первыми проблесками утра я выходила за порог, Мэри как ни в чем не бывало стояла, прислонившись к стене дома напротив, хихикала, кривлялась, чесалась под платьем и в знак приветствия показывала мне язык, вывалив его изо рта.
А что, если моя мама тогда смотрела в окно? Она бы тоже это увидела. А может, и нет.
В жаркие дни, когда весь воздух наполнялся снотворным жужжанием, мы не слонялись бесцельно, но подходили все ближе и ближе к дому Хэтэуэев. Тогда я не знала названия этого дома, и до того лета вообще не подозревала о его существовании. Этот загадочный дом возник из небытия, когда я была совсем девочкой, и мы, стремясь расширить границы нашего мира, заходили все дальше от центра поселка. Мэри первая его обнаружила. Он стоял особняком, и мы сразу догадались, что это дом богачей. Настоящий каменный замок, с величественной круглой башней, с большим садом и оградой, впрочем, не настолько высокой, чтобы мы не смогли через нее перелезть и тихо шлепнуться посреди кустов. И тут мы увидели, что все розы на клумбах уже изжарились и скукожились, повиснув бурыми волдырями на стебельках. Трава на газонах тоже высохла. Высокие французские окна блестели на солнце, а вокруг дома, с той стороны, где были мы, тянулось что-то вроде открытой веранды, или лоджии, или террасы (я никак не могла подобрать нужного слова, а Мэри и спрашивать нечего).
— А папа говорит, — весело шептала Мэри, когда мы пробирались через кусты поближе к дому, — папа мне говорит: «Ты, Мэри, дуреха, понимаешь ты это? Ведь если они тебя обнаружат, они из тебя лепешку сделают! Костей не соберешь!»
В тот первый день мы, спрятавшись в кустах, долго ждали, когда же из-за блестящих окон-дверей покажутся загадочные богачи — хозяева дома, что же они будут делать.
— А твоя мама не знает, где ты, — шепнула мне Мэри.
— Твоя тоже.
День клонился к вечеру, и Мэри сделала себе что-то вроде берлоги или гнезда под кустом, и очень удобно там устроилась.
— Знала бы, что будет так скучно, взяла бы с собой книжку, — сказала я.
Мэри наматывала на пальцы травяные стебельки, что-то бурча себе под нос.
— Папа говорит: «Ну, Мэри, возьмись за ум! А не то пойдешь в исправительную школу!»
— А что это такое?
— А это такая школа, где каждый день секут.
— За что?
— Ни за что, просто так.
Я пожала плечами. Звучало весьма правдоподобно.
— А в выходные тоже секут? Или только по будням?
На самом деле этот вопрос не так уж сильно меня волновал, просто мне было скучно и уже клонило в сон.
— По очереди, — ответила Мэри.
У нее в руках была деревянная палочка, которой она все ковыряла в земле.
— Как придет твоя очередь, Китти, они возьмут большую дубину и начнут колотить по голове так, что искры из глаз посыплются, а потом у тебя череп треснет и мозги вытекут.
Разговор наш иссяк, интерес мой тоже, да к тому же мне было очень неудобно сидеть, поджав ноги: они затекли и начали болеть. Я нетерпеливо зашевелилась.
— Долго еще ждать? — спросила я, кивнув в сторону дома.
Мэри ухмыльнулась, продолжая ковырять палочкой землю.
— Сядь нормально, Мэри, не расставляй ноги, — сказала я, — так сидеть неприлично.
— Слушай-ка, — сказала Мэри. — Я сюда ходила, когда малявки вроде тебя уже спят. И я тут, знаешь, кого видела? Знаешь, с кем они тут возятся?
Я тут же встрепенулась.
— С кем же?
— Для него и названия нету.
— Но подскажи хотя бы, на что оно похоже.
— Оно завернуто в одеяло.
— Животное?
— Скажешь тоже, животное! — прыснула Мэри. — Ты когда-нибудь видела, чтобы животных завертывали в одеяло?
— Щенков иногда завертывают, если они заболеют.
Я чувствовала свою правоту и готова была спорить, щеки у меня горели.
— Нет, нет, нет, никакой это не щенок, потому что… — Мэри сделала интригующую паузу. — Потому что у него руки!
— Ага! Так это человек!
— Но с виду совсем не человек.
— А кто же? — я с ума сходила от нетерпения.
Мэри с минуту задумчиво молчала, а затем медленно, с расстановкой произнесла:
— Запятая. Как в книжках.
Теперь Мэри была непоколебима.
— Надо только подождать, — сказала она. — Если и вправду хочешь посмотреть, то подождешь, а не хочешь — ну и вали отсюда. Я и без тебя все увижу.
Я подумала и сказала:
— Не могу же я ждать этой запятой до ночи! Я опоздаю к чаю.
— Тебя и не хватятся, — сказала Мэри.
И она оказалась права. Когда я уже поздним вечером устало добрела домой, меня даже не ругали. Лето было такое жаркое, что все родители уже к концу июля окончательно позабыли свои обязанности. Когда ты показывалась маме на глаза, лицо ее выражало нечеловеческое усилие. Ты разукрашена липкими брызгами черной смородины. Ноги грязные, лицо в пятнах: ведь ты днюешь и ночуешь то в кустах, то в высокой траве, и каждый день огромное солнце, словно нарисованное ребенком, полыхает в раскаленном добела небе. Белье на веревках перед домом, как флаги сдающейся крепости. И лишь поздним вечером яркий свет сменяется туманом и выпадает роса. Родители зовут тебя домой, и в свете электрической лампы ты сдираешь с себя лоскутья обгоревшей кожи, точно луковицу чистишь. Странно, но от этого не чувствуешь боли, а только жар где-то внутри. Уже засыпаешь на ходу, и тебя отправляют в постель, но стоит только коснуться горячей простыни — весь сон как рукой снимает, и ты начинаешь расчесывать укусы. Вот этот — когда ты ползла в траве, дожидаясь удобного момента, чтобы перелезть через ограду. А этот — когда ты сидела в засаде в кустах. И всю эту краткую ночь твое сердце возбужденно бьется. Лишь перед рассветом наступает легкая прохлада, и воздух становится чистым, как ключевая вода.