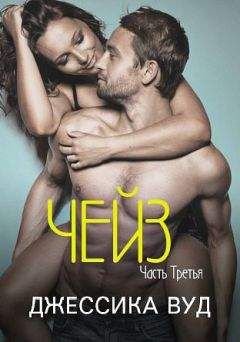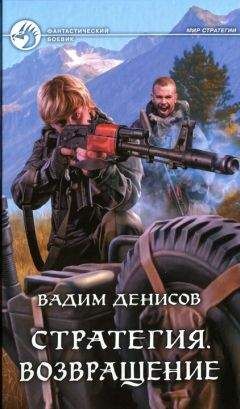Виктор Пелевин - Generation П

Обзор книги Виктор Пелевин - Generation П
Generation «П»
ПАМЯТИ СРЕДНЕГО КЛАССА
Все упоминаемые в тексте торговые марки являются собственностью их уважаемых владельцев, и все права сохранены. Названия товаров и имена политиков не указывают на реально существующие рыночные продукты и относятся только к проекциям элементов торгово-политического информационного пространства, принудительно индуцированным в качестве объектов индивидуального ума. Автор просит воспринимать их исключительно в этом качестве. Остальные совпадения случайны. Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Поколение «П»
I'm sentimental, if you know what i mean;
I love the country but i can't stand the scene.
And I'm neither left or right.
I'm just staying home tonight,
Getting lost in that hopeless little screen[1].
Leonard CohenКогда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу – и выбрало «Пепси».
Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверно, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка. И не в кофеине, который заставляет ребятишек постоянно требовать новой дозы, с детства надежно вводя их в кокаиновый фарватер. И даже не в банальной взятке – хочется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение контракта, просто взял и полюбил эту темную пузырящуюся жидкость всеми порами своей разуверившейся в коммунизме души.
Скорей всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Поэтому у поколения «П» на самом деле не было никакого выбора, и дети советских семидесятых выбирали «Пепси» точно так же, как их родители выбирали Брежнева.
Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь.
Прошло десять лет, и этот мир стал входить – сначала осторожно и с вежливой улыбкой, а потом все уверенней и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий «Пепси-колу», – клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила «обычную колу» и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать хотели на женское равноправие (когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души).
Если вдуматься, уже тогда можно было понять, что дело не в пепси-коле, а в деньгах, с которыми она прямо связывалась. К этому выводу приводили, во-первых, классическая фрейдистская ассоциация, обусловленная цветом продукта; во-вторых, логическое умозаключение – поглощение пепси-колы позволяет приобретать дорогие машины. Но мы не собираемся глубоко анализировать этот клип (хотя, может быть, именно здесь нашлось бы объяснение того, почему так называемые шестидесятники упорно называют поколение «П» говнососами). Для нас важно только то, что окончательным символом поколения «П» стала обезьяна на джипе.
Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисон-авеню представляют себе свою аудиторию, так называемую target group. Но трудно было не поразиться их глубокому знанию жизни. Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что настала пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим.
Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Так что «Пепси-кола» здесь совершенно ни при чем. Случившееся было частью всемирного процесса, отраженного во множестве книг (достаточно вспомнить «Ожидание обезьян» Андрея Битова или «Браззавильский пляж» Вильяма Бойда). Не обошел этот процесс и Америку, хотя там все произошло совсем иначе – «Кока-кола» полностью, окончательно и необратимо вытеснила «Пепси-колу» с красного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе при Ватерлоо. Это было связано с деятельностью религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах. Они не признают эволюции; «Кока-кола» лучше вписывается в их картину мира, потому что пьющая ее обезьяна так и остается обезьяной. Впрочем, мы слишком долго говорим об обезьянах – а собирались ведь искать человека.
Вавилен Татарский родился задолго до этой исторической победы красного над красным. Поэтому он автоматически попал в поколение «П», хотя долгое время не имел об этом никакого понятия. Если бы в те далекие годы ему сказали, что он, когда вырастет, станет копирайтером, он бы, наверно, выронил от изумления бутылку «Пепси-колы» прямо на горячую гальку пионерского пляжа. В те далекие дни детям положено было стремиться к сияющему шлему пожарного или белому халату врача. Даже мирное слово «дизайнер» казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту, до первого серьезного обострения международной обстановки.
Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя «Вавилен», которым Татарского наградил отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов «Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин». Отец Татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец Татарского, – таким было все советское поколение пятидесятых и шестидесятых, подарившее миру самодеятельную песню и кончившее в черную пустоту космоса первым спутником – четыреххвостым сперматозоидом так и не наставшего будущего.
Татарский очень стеснялся своего имени, представляясь по возможности Вовой. Потом он стал врать друзьям, что отец назвал его так потому, что увлекался восточной мистикой и имел в виду древний город Вавилон, тайную доктрину которого ему, Вавилену, предстоит унаследовать. А сплав Аксенова с Лениным отец создал потому, что был последователем манихейства и натурфилософии и считал себя обязанным уравновесить светлое начало темным. Несмотря на эту блестящую разработку, в возрасте восемнадцати лет Татарский с удовольствием потерял свой первый паспорт, а второй получил уже на Владимира.
После этого его жизнь складывалась самым обычным образом. Он поступил в технический институт – не потому, понятное дело, что любил технику (его специальностью были какие-то электроплавильные печи), а потому, что не хотел идти в армию. Но в двадцать один год с ним случилось нечто, решившее его дальнейшую судьбу.
Летом, в деревне, он прочитал маленький томик Бориса Пастернака. Стихи, к которым он раньше не питал никакой склонности, до такой степени потрясли его, что несколько недель он не мог думать ни о чем другом, а потом начал писать их сам. Он навсегда запомнил ржавый каркас автобуса, косо вросший в землю на опушке подмосковного леса. Возле этого каркаса ему в голову пришла первая в жизни строка – «Сардины облаков плывут на юг» (впоследствии он стал находить, что от этого стихотворения пахнет рыбой). Словом, случай был совершенно типичным и типично закончился – Татарский поступил в Литературный институт. Правда, на отделение поэзии он не прошел – пришлось довольствоваться переводами с языков народов СССР. Татарский представлял себе свое будущее примерно так: днем – пустая аудитория в Литинституте, подстрочник с узбекского или киргизского, который нужно зарифмовать к очередной дате, а по вечерам – труды для вечности.
Потом незаметно произошло одно существенное для его будущего событие. СССР, который начали обновлять и улучшать примерно тогда же, когда Татарский решил сменить профессию, улучшился настолько, что перестал существовать (если государство способно попасть в нирвану, это был как раз такой случай). Поэтому ни о каких переводах с языков народов СССР больше не могло быть и речи. Это был удар, но его Татарский перенес. Оставалась работа для вечности, и этого было довольно.
И тут случилось непредвиденное. С вечностью, которой Татарский решил посвятить свои труды и дни, тоже стало что-то происходить. Этого Татарский не мог понять совершенно. Ведь вечность – так, во всяком случае, он всегда думал – была чем-то неизменным, неразрушимым и никак не зависящим от скоротечных земных раскладов. Если, например, маленький томик Пастернака, который изменил его жизнь, уже попал в эту вечность, то не было никакой силы, способной его оттуда выкинуть.