Анатолий Черноусов - Повести
Трава картошку глушит — нужно помочь старухе протяпать огород, одна–то она когда управится. А еще городские одолели — сделай да сделай им оконные рамы, наличники, ставни, а отказать Парамон не может: натура такая.
Вот и Римма упросила Парамона смастерить для будущего домика новые наличники и ставни, и тоже Парамон не смог отказать: такая молодая да обходительная женщина просит!..
Когда у Горчакова выдавалась свободная минута, он любил посидеть под навесом, где у Парамона располагался верстак, где на деревянных шпильках, вбитых в стену стайки, висели лучковая пила, ножовка, скобель, складной метр, а на полке хранились рубанки, стамески, зубила, молоточки, ручные буравчики (Парамон называл их «напа рьями»), железное «жига ло» для прожигания дырочек в дереве.
Горчакову нравился запах стружки и опилок, нравилось гладить рукой доску после того, как Парамон прошелся по ней рубанком, — какая гладкая и теплая поверхность! Сколь красив рисунок слоистой древесины! Какой затейливый узор нарисовался сам собой вокруг темного сучка!
По всему было видно, что Парамон любит столярничать, знает и чувствует дерево.
— Древесина, — чуть даже таинственно говорил он Горчакову во время перекура, — должна лет одиннадцать выдерживаться, сохнуть, только тогда она делается мертвая. А до этого она живая, в ей ишо не закрылись дырочки махонькие, канальчики, если говорить по–научному, по которым сок по стволу подымается. Сделают из живой древесины чё–нить, стул там или стол, а он, глядишь, рассохся. Дак он как не рассохнется, — начинал горячиться Парамон, — ежели она ишо живая!.. Только из омертвелой древесины можно мебель ладить! Оттого–то старинная мебель и крепкая, вечная, износу ей нет! А нынешна–то скоро распадается.
«Вот оно что! — думал Горчаков и вспоминал, что в институте у них в прошлом году накупили новых стульев, и вот не проходит дня, чтобы кто–нибудь из студентов не грохнулся бы на пол и не вызвал тем самым всеобщий хохот. — Потому и разваливаются новехонькие стулья и столы, потому и рассыхаются в квартирах полы, что сделаны они торопливо, наспех, из живого «невыдержанного“ дерева!»
Горчаков смотрел, как Парамон собирает–сколачивает оконные рамы, как он стамеской и лобзиком вырезает накладки–украшения для наличников, все эти ромбики, кружочки, цветы вроде ромашек и колокольчиков, кедровые ветки и шишки, листочки, птиц наподобие пряничных жаворонков.
«Настоящий мастер, художник!» — уважительно думал Горчаков, следя за движениями инструмента в руках у Парамона и глядя на его сосредоточенное, как бы просветленное лицо.
В такие минуты Горчакову очень хотелось, чтобы их с Риммой домик получился бы не вычурным каким–нибудь балаганом, а именно добротным, русским, «парамоновским» домом.
…Неловко было Горчакову отрывать Парамона от хлопот по хозяйству и от верстака, однако он все же решился и попросил старика помочь заложить основание дома, его «обвязку».
И вот они с Парамоном замеряют рулеткой длину продольных и поперечных стен, распиливают бревна, вырубают в них угловые «чашки», укладывают первый венец на шлакобетонные тумбы, подстелив предварительно куски рубероида, чтобы не проходила в древесину сырость от фундамента.
Горчакову не хотелось рассказывать Парамону, где достал он эти смолистые красноватые бревна, однако старик и сам догадался…
— Издалека, видать, лес–то, — заметил он как бы между прочим, — из тайги, молевой. У нас здесь пихты нет.
«Вон что! — мелькнуло у Горчакова. — Стало быть, это пихты. Вот откуда смолистый, таежный запах!..»
Пришлось рассказать, где Виталькин сын взял эти бревна, как приволок их по воде на катере, как поднял их с берега лихой тракторист Ванюшка…
Парамон бесстрастно выслушал живописный рассказ о приключениях с бревнами, а когда увидел еще и телеграфные столбы, сложенные около забора, то и вовсе насупился, будто тучка на лицо набежала. Он по–прежнему деловито распоряжался, где надо подхватить бревно, куда положить его, где отпилить; скрупулезно выверял все размеры, точнехонько, по уровню, выставлял всю «обвязку» на фундаменте, не забыл проверить равенство диагоналей в срубе, — словом, все честь–честью делал Парамон, и Горчакову бы радоваться — какой знаменательный момент! Начинают вырисовываться контуры будущего дома, кладовки, сеней! Однако Горчаков не мог не заметить перемены в старике.
«Что с ним? — думал Горчаков. — Недоволен, что я оторвал его от дел? А может быть… осуждает за эти бревна?..»
Но об этом Горчакову страсть как неприятно было думать, у него от самоедства начинали болеть зубы, и потому он гнал «самоедство» от себя, как некое наваждение: «К черту! К черту!..»
Глава 21
Да, Парамона не на шутку расстроила дружба квартиранта с Виталькой, огорчили их совместные махинации с лесом, с телеграфными столбами и кирпичом.
«Язви его, Витальку! — думал расстроенный Парамон. — Мало того, что сам мошенник, так и парня этого втянул… И этот вроде не понимает, что лес–то государственный. Да и столбы. Пусть они списаны, но они же на подотчете у кого–то. А уж про кирпич и говорить нечего, он–то уж, как пить дать, ворованный!..»
Парамона давно уже занимал вопрос, где они, городские, берут бревна, шпалы, кирпич. Ни разу он, Парамон, не видел ни в городе, ни в районном центре, чтобы все это добро продавалось в магазинах либо на рынке. Стало быть — воруют? Тянут?.. И все более убеждался — да, воруют, да, тянут.
Пробовал было Парамон разузнать, расспросить, откуда и как это все берется, но в ответ слышал только одно слово «достал». А некоторые из дачников, полагая, видно, что расспрашивает он неспроста, с прицелом, прямо предлагали: «Если надо, Парамон Ильич, и тебе достанем». И когда он отказывался, глядели на него в недоумении.
«Достать». Раньше это слово означало «дотянуться и взять», теперь же оно, выходит, стало означать, как догадывался Парамон, «украсть» или «купить украденное», приобрести, в общем, что–либо незаконным путем.
Воровать Парамон был отучен еще в детстве, отцом отучен, с того самого дня, когда отец жестоко отодрал его, шестилетнего, за огурец, сорванный в соседкином огуречнике. Страх наказания позже перерос в понимание греховности, постыдности воровства. И тут, в представлении Парамона, не было разницы, у соседа ты украл или же у государства. Если у государства, так это еще хуже, считал Парамон. И рассуждал он как бывший солдат, фронтовик, и как человек, понимающий международную обстановку. Если ты украл у государства, полагал Парамон, то, стало быть, ты ослабил государство. И если, предположим, все мы начнем тянуть, пусть по винтику, по кирпичику, по кусочку народное добро, то мы настолько ослабим государство, что нас попросту могут раздавить. «Кто ворует у государства, — кипятился Парамон, — тот диверсант, тот враг!» А когда ему в споре возражали (а чаще всего он спорил на эту тему с Виталькой), что–де государство богатое, его–де не убудет, Парамон и вовсе выходил из себя, возмущался: «Да с чего ж оно богатое–то! С чего?.. Война такая была. Разруха. Токо–токо на ноги стали — на тебе, новую войну на нас готовят! Ты бы подумал своей башкой — сколько средств идет на эти ракеты! На эти бомбы! Откуда же нам богатыми–то быть!»
«Мелкий вор — он та же мышь, — говорил в другой раз Парамон. — Вроде и кроху отгрызла, к примеру, от куска мяса, а ежели десяток мышей? Ежели сотня?.. Весь окорок растащат, сволочи, по крошке–то!..»
«А тут разве по крошке тащут! — думал Парамон о некоторых дачниках. — Какие особняки отгрохивают! На «Жигулях“, на «Волгах“ подкатывают к своим каменным хоромам! А спроси его, какая у него зарплата, и окажется сто двадцать рублей. Ну–ка, ты вот получаешь и двести, и двести пятьдесят, и триста, а ты накопишь ли на машину? Да еще на дачу? То–то и оно. Наворованные, стало быть, особняки и машины…»
Поскольку он, Парамон Хребтов, был единственным в деревне столяром по части оконных рам, наличников и ставней, то он был вхож и за глухие заборы, и в те самые особняки и видел — чего только не позаводила жулябия!
Но тут же и срезал себя допросом: «А кто им, буржуям, дорогу сюда дал? Кто их пустил сюда поначалу–то?..» И сам же себе отвечал: «Это ты их сюда пустил! Ты им дорогу дал!»
Тут весь горячий пыл Парамона шел на убыль, сникал, тут Парамон и осекался. И ходили его думы кругами да кругами. Старуха его, бабка Марья, стала замечать: работает Парамон около верстака, строгает сутунок, а сам с собой бормочет, будто спорит с кем, петушится… А то вдруг замрет, осовеет, уставится своими выпуклыми глазами в землю и стоит этак истуканом, а потом бормотать сызнова начнет. Это пугало бабку, у нее гусиная кожа выступала. «Туру сит старик–то! — догадывалась она. — Как бы он того… не помешался бы умом…»

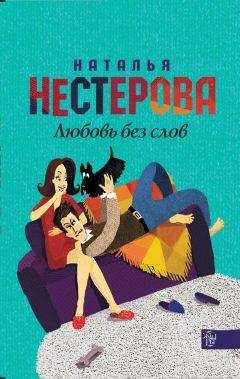
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/uploads/posts/books/237651/237651.jpg)
