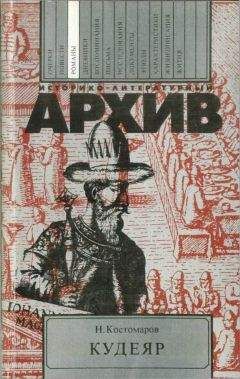Сергей Черепанов - Родительский дом
Уж потом, в госпитале, узнал: деревенские поляки подобрали, малость выходили и переправили к нашим.
Больше года он был на излечении как неизвестный солдат. Где-то сняли с него гимнастерку вместе с орденами и личными документами. Попал в госпиталь разут-раздет, вдобавок глухой и вроде бы не в себе. Да падучая привязалась. Только уж на второй год пребывания начал мало-помалу отходить, стало в голове проясняться.
До той поры не понимал своего положения, а как вспомнил, что есть у него молодая жена, свой двор, родня, да как представил, каково-то будет жене при его инвалидности, порешил одиноким остаться. Любил ведь Настасью не как-нибудь, не просто житейски, а все в ней сошлось: мать, отец, сестры — все про все, самое дорогое!
— Думал даже кончить себя, — признался Никифор. — Кабы Семен, искалеченный, не нуждался в подмоге, зарылся бы обратно в землю.
— И поступил бы бессовестно, — выговорила ему Настасья. — Пусть бы от тебя половинка осталась, и то не отказалась бы от нее. Страдание не страдание, если разлуке конец. О себе ты подумал, а меня к кому приравнял? Что же, по-твоему: любовь — это так, до поры, до времени, покуда все ладно и хорошо, а пристигнет испытание, надо в разные стороны разбегаться?
Отгостили мы в доме Марфы Григорьевны пятеро суток. Никифор уволился из леспромхоза, старушке на зиму дров наготовил. Звали ее к нам, примем-де как мать, но она отказалась: старому дереву в другом месте не прирасти.
Жить бы да жить Никифору и Настасье в любви и согласии. Никифор — мужик работящий. Но и здесь, дома, его прищемило. Многие земляки встретили недоверием. Иные даже спрашивали напрямик: не сочиняешь ли, будто не по своей вине документы утратил, не сдавался ли немцам в плен и почему столь долго себя не оказывал, не в колонии ли за измену срок отбывал? Насчет колонии подозрение сразу отпало, предъявил Никифор справки из госпиталя и леспромхоза, а на все остальное ничем ответить не мог. Без бумажки голое-то слово никто во внимание не взял. Только фронтовики, кои сами на войне семь бед повидали, отнеслись с пониманием, понапраслин не строили, но ведь сорную траву с поля не вытравить, если кто-то ее подсевает.
Я позднее дозналась: это мой бывший муж, Кокин, оказался зачинщиком. Ему от простой поры бросать тень. Любого мужика или бабу, бывало, всяко охает и осрамит, родного отца оконфузит, если поперек ему скажут. Все плохи, с изъянами.
Свою судьбу я благодарила не раз: вовремя развела она меня с Кокиным. Не построился бы у нас мир в семье…
А какой же расчет имел Кокин, когда взялся ставить Никифора под сомнение? Тот ведь ничем-ничего, худого слова ему не говаривал. Зловредность — это само собой, из характера ее не выжечь огнем, не вырубить топором. Надо было Кокину еще и самого себя показать: вот-де какой я догадливый, на два метра сквозь землю вижу! И вдобавок — зависть! Не мог стерпеть Настасьину преданность мужу.
Мы с Настасьей и при Никифоре не расставались. К ее дому сделала я для себя пристройку с отдельным входом.
В воскресный день сидели мы втроем за столом у Настасьи. Она сдобных шанежек напекла, самовар поставила, и вели мы душевный разговор о детишках. Настасья ходила в тяжести, вот-вот надо было рожать, а я, бездетная, намеревалась удочерить сиротку из детского дома.
Погода стояла ведренная, створки в окошках раскрыты настежь.
Вот сидим, пьем чай, ведем беседу, как вдруг подошел к окну посыльный из сельсовета, Иван Парамоныч.
— Никифор! Ступай к председателю. Насчет тебя из Польши какой-то пакет поступил…
Мужик чуть чаем не поперхнулся.
— Не надо пугаться, — предупредил Иван Парамоныч. — Пакет не казенный. Что-то о твоих документах…
Оставили мы на столе недопитые чашки с чаем, наспех оделись-обулись и скорехонько явились в сельский Совет. Председатель, Федор Никитич, встретил нас на крыльце. Поздоровался честь по чести, но распечатанный пакет подал не Никифору, а Настасье.
— Весточка прибыла к тебе через двадцать годов…
Лежало в том пакете сложенное угольничком, писанное рукой Никифора письмо с фронта. Помятое, надорванное, от времени пожелтевшее, но адрес был еще разборчивый. Настасье! Вместе с ним было прислано еще одно письмо — сельсовету, от польской гражданки Ядвиги Яблоньской. Наполовину по-русски, наполовину на своем языке.
В тот год войны Ядвига вместе со своей бабушкой нашла близ деревни советского солдата в беспамятстве. Взяли они солдата к себе в хату, бабушка сняла с него гимнастерку с орденами и личными документами, спрятала подальше, а Ядвиге наказала: ежели фашисты придут, станут про солдата допытываться, надо соврать им: вовсе, мол, это не какой-то приблудный, а хворый племянник. Ден через пять, когда солдат уже начал оживать, ворвались полицаи, в хате все перерыли, а солдата уволокли и бросили где-то. Бабушку застрелили. Наверно бы, Ядвигу та же участь постигла, только она успела в поле убежать, попала к партизанам. Те потом подобрали солдата, а куда дальше подевался, ей уже неизвестно. Долго стояла хата пустая. Ядвига выросла, замуж вышла и вот недавно надумала с мужем хату сломать, новый дом ставить. Под застрехой, где голуби гнездились, нашли спрятанную гимнастерку, а в кармане оказалось письмо, которое солдат не успел жене отослать.
Дальше обращалась эта польская гражданочка в наш сельсовет: если-де жена солдата жива-здорова, передайте ей низкий поклон, письмо вручите и справьтесь, как с гимнастеркой поступить: на ней же ордена и медали…
Ой, трудно сказывать, что с нами творилось, покуда письмо прочитали! У меня сердце слабое, слезы всегда наготове, но и Настасья, при ее-то характере, тоже не могла удержаться. У Никифора руки места не находили: он все ж таки мужик, солдат, ему не положено достоинством попускаться.
— Баушку жалко! — вот и все, что он нашелся сказать.
Отписал Никифор ответ, поблагодарил за находку и попросил Ядвигу прислать гимнастерку посылкой. Должен бы, дескать, сам приехать, да одному, без сопровождения, здоровье не позволяет, а жена в тяжести, и оставлять ее здесь неспособно.
Федор Никитич заверил его письмо сельсоветской печатью, чтобы не случилось сомнения, тот ли это Никифор Сапожников.
В деревне от двора к двору молва быстро разносится. Недоверие к Никифору разом отпало. Кокин язык прикусил.
Вскоре прибыла посылка из Польши. Гимнастерка грязная, в налипшей земле, один рукав почти напрочь оторван, это, наверно, когда снаряд подле солдата взорвался, так, может, воздушной волной, не то осколком задело. И остался на ней след войны.
Зато ордена и медали полностью сохранились. Справа — гвардейский значок и Красная Звезда. Слева два ордена солдатской Славы. В кармашках гимнастерки в целости документы и Настасьина фотокарточка.
Хотел Никифор ордена с гимнастерки снять, на пиджак разместить, а Настасья не позволила.
— Нет! Ты сначала надень на себя гимнастерку, дай поглядеть, ведь в солдатском обмундировании я тебя еще не видала.
Тот исполнил ее желание, надел эту рваную, грязную гимнастерку, ремнем подпоясался, впервые лицом посветлел.
Вывела его Настасья на улицу.
— Пойдем! Всем людям я тебя покажу!
А я тем временем, хоть и не верю ни в бога, ни в черта, чуть не молилась: как хорошо, что сотворенный мир стоит на вечном добре! Ведь заглохло бы все, одичало без нашей душевности друг к дружке, когда не только в счастье, но и в несчастье люди остаются людьми…
Самовар на столе, остывая, тоненько, с перерывами, пел. Кошка поднялась с подоконника, широко зевнула и спрыгнула в палисадник. Зашипели часы на комоде, отзвонили прошедшее время, как бы провожая его в бездну вечности. В тишине и теплом сумраке растворились былые горечи и печали, и невидимо, неотвратимо подступало что-то, еще нам неведомое.