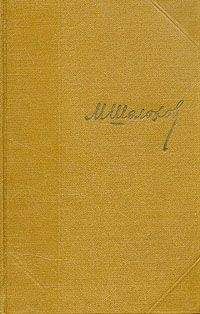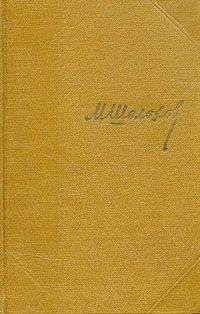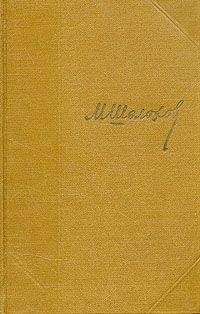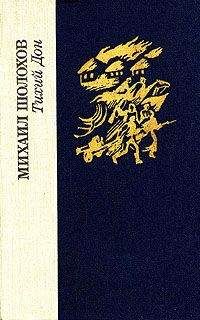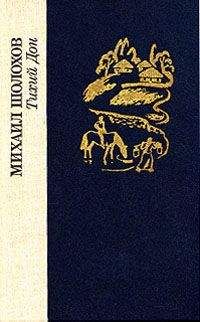Михаил Шолохов - Том 5. Тихий Дон. Книга четвертая
Аксинья нерешительно ответила:
— Смотри сама. Пусти квартирантов — или делай, как знаешь. Что останется из одежи, из имения — перенеси к себе…
— Что я скажу людям-то? Спросят, куда делась, — что я говорить буду? — спросила Дуняшка.
— Скажи, что ничего не знаешь, вот и весь сказ. — Григорий повернулся к Аксинье. — Ксюша, поспешай, собирайся. Много не бери с собой. Возьми теплую кофту, две-три юбки, бельишко какое есть, харчей на первый случай, вот и все.
Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до яра.
— Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли, — сказал Григорий. — Только узелок у тебя тогда был побольше, да сами мы были помоложе…
Охваченная радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория.
— А я все боюсь — не во сне ли это? Дай руку твою, потрогаю, а то веры нету. — Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория.
Он видел ее опухшие от слез, сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал: «Собралась и пошла, как будто в гости… Ничто ее не страшит, вот молодец баба!»
Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала:
— Видишь, какая я… свистнул, как собачонке, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили… Только детишек жалко, а об себе я и «ох» не скажу. Везде пойду за тобой, хоть на смерть!
Заслышав их шаги, тихо заржали кони. Стремительно приближался рассвет. Уже зарозовела чуть приметно на восточной окраине полоска неба. Над Доном поднялся от воды туман.
Григорий отвязал лошадей, помог Аксинье сесть в седло. Стремена были отпущены длинновато по ногам Аксиньи. Досадуя на свою непредусмотрительность, он подтянул ремни, сел на второго коня.
— Держи за мной, Ксюша! Выберемся из яра — пойдем наметом. Тебе будет не так тряско. Поводья не отпускай. Конишка, какой под тобой, этого недолюбливает. Береги колени. Он иной раз балуется, норовит ухватить зубами за колено. Ну, айда!
До Сухого лога было верст восемь. За короткий срок они проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксинье сойти с коня.
— Ну, как? Тяжело с непривычки ездить верхом? — улыбаясь, спросил он.
Раскрасневшаяся от скачки Аксинья блеснула черными глазами.
— Хорошо! Лучше, чем пешком. Вот только ноги… — И она смущенно улыбнулась: — Ты отвернись, Гриша, я гляну на ноги. Что-то кожу пощипывает… потерлась, должно быть.
— Это пустяки, пройдет, — успокоил Григорий. — Разомнись трошки, а то у тебя ноженьки что-то подрагивают… — И с ласковой насмешкой сощурил глаза: — Эх ты, казачка!
У самой подошвы буерака он выбрал небольшую полянку, сказал:
— Тут и будет наш стан, располагайся, Ксюша!
Григорий расседлал коней, стреножил их, положил под куст седла и оружие. Обильная густая роса лежала на траве, и трава от росы казалась сизой, а по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклой голубизной. В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые шмели. Звенели над степью жаворонки, в хлебах, в душистом степном разнотравье, дробно выстукивали перепела: «Спать пора! Спать пора! Спать пора!» Григорий умял возле дубового куста траву, прилег, положив голову на седло. И гремучая дробь перепелиного боя, и усыпляющее пение жаворонков, и теплый ветер, наплывавший из-за Дона с неостывших за ночь песков, — все располагало ко сну. Кому-кому, а Григорию, не спавшему много ночей подряд, пора было спать. Перепела уговорили его, и он, побежденный сном, закрыл глаза. Аксинья сидела рядом, молчала, задумчиво обрывая губами фиолетовые лепестки пахучей медвянки.
— Гриша, а никто нас тут не захватит? — тихо спросила она, коснувшись стебельком цветка заросшей щеки Григория.
Он с трудом очнулся от дремотного забытья, хрипло сказал:
— Никого нету в степи. Зараз же глухая пора. Я усну, Ксюша, а ты покарауль лошадей. Потом ты уснешь. Сон сморил меня… сплю… Четвертые сутки… Потом погутарим…
— Спи, родненький, спи крепше!
Аксинья наклонилась к Григорию, отвела со лба его нависшую прядь волос, тихонько коснулась губами щеки.
— Милый мой, Гришенька, сколько седых волос-то у тебя в голове… — сказала она шепотом. — Стареешь, стало быть? Ты же недавно парнем был… — И с грустной полуулыбкой заглянула в лицо Григорию.
Он спал, слегка приоткрыв губы, мерно дыша. Черные ресницы его, с сожженными солнцем кончиками, чуть вздрагивали, шевелилась верхняя губа, обнажая плотно сомкнутые белые зубы. Аксинья всмотрелась в него внимательнее и только сейчас заметила, как изменился он за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах… И она впервые подумала, как, должно быть, страшен он бывает в бою, на лошади, с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула.
Спустя немного Аксинья тихонько встала, перешла поляну, высоко подобрав юбку, стараясь не замочить ее по росистой траве. Где-то недалеко бился о камни и звенел ручеек. Она спустилась в теклину лога, устланную замшелыми, покрытыми прозеленью, каменными плитами, напилась холодной родниковой воды, умылась и досуха вытерла порумяневшее лицо платком. С губ ее все время не сходила тихая улыбка, радостно светились глаза. Григорий снова был с нею! Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность… Много слез пролила Аксинья бессонными ночами, много горя перетерпела за последние месяцы. Еще вчера днем, на огороде, когда бабы, половшие по соседству картофель, запели грустную бабью песню, — у нее больно сжалось сердце, и она невольно прислушалась.
Тега-тега, гуси серые, домой,
Не пора ли вам наплаваться?
Не пора ли вам наплаваться,
Мне, бабеночке, наплакаться… — выводил, жаловался на окаянную судьбу высокий женский голос, и Аксинья не выдержала: слезы так и брызнули из ее глаз! Она хотела забыться в работе, заглушить ворохнувшуюся под сердцем тоску, но слезы застилали глаза, дробно капали на зеленую картофельную ботву, на обессилевшие руки, и она уже ничего не видела и не могла работать. Бросив мотыгу, легла на землю, спрятала лицо в ладонях, дала волю слезам…
Только вчера она проклинала свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день, а сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего ливня. «Найдем и мы свою долю!» — думала она. рассеянно глядя на резные дубовые листья, вспыхнувшие под косыми лучами восходящего солнца.
Возле кустов и на солнцепеке росли душистые пестрые цветы. Аксинья нарвала их большую охапку, осторожно присела неподалеку от Григория и, вспомнив молодость, стала плести венок. Он получился нарядный и красивый. Аксинья долго любовалась им, потом воткнула в него несколько розовых цветков шиповника, положила в изголовье Григорию.
Часов в девять Григорий проснулся от конского ржания, испуганно сел, шаря вокруг себя руками, ища оружие.
— Никого нету, — тихо сказала Аксинья. — Чего ты испужался?
Григорий протер глаза, сонно улыбнулся.
— Приучился по-заячьи жить. Спишь и во сне одним глазом поглядываешь, от каждого стука вздрагиваешь… От этого, девка, скоро не отвыкнешь. Долго я спал?
— Нет. Может, ишо уснешь?
— Мне надо сутки подряд спать, чтобы отоспаться как следует. Давай лучше завтракать. Хлеб и нож у меня в седельных сумах, достань сама, а я пойду коней напою.
Он встал, снял шинель, повел плечами. Жарко пригревало солнце. Ветер ворошил листья деревьев, и за шелестом их уже не слышно было певучего говора ручья.
Григорий спустился к воде, из камней и веток сделал в одном месте запруду, шашкой нарыл земли, засыпал ею промежутки между камнями. Когда вода набралась возле его плотины, он привел лошадей и дал им напиться, потом снял с них уздечки, снова пустил пастись.
За завтраком Аксинья спросила:
— Куда же мы поедем отсюда?
— На Морозовскую. Доедем до Платова, а оттуда пойдем пеши.
— А кони?
— Бросим их.
— Жалко, Гриша! Кони такие добрые, на серого прямо не наглядишься, и надо бросать? Где ты его добыл?
— Добыл… — Григорий невесело усмехнулся. — Грабежом взял у одного тавричанина.
После недолгого молчания он сказал:
— Жалко не жалко, а бросать прийдется… Нам лошадьми не торговать.
— А к чему ты при оружии едешь? На что оно нам сдалось? Не дай бог, увидит кто — беды наберемся.
— Кто нас ночью увидит? Я его так, для опаски оставил. Без него мне уже страшновато… Бросим коней — и оружие брошу. Тогда оно уже будет ненужное.