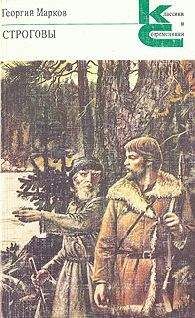Феоктист Березовский - Бабьи тропы
«Кто он — судья мой страшный?» — спрашивала сама себя бабка Настасья, шагая по пересохшему пригону.
И просветленно сама себе отвечала:
«Совесть это моя…»
И снова спрашивала: «Откуда она?»
И снова сама себе отвечала: «От людей, от мира, а не от бога».
Вспомнила преступление деда Степана, совершенное им в молодости, его долгие и затаенные муки, его раскаяние перед миром и пришедший после того душевный покой к нему. И чем дальше брела и думала бабка Настасья, тем больше понимала, что не богу надо было молиться, а перед миром совесть свою очистить.
Неприметно вышла бабка Настасья к гумнам и остановилась около овина. Надо бы домой вернуться, но кто-то толкал вперед.
А в черной тьме все чаще и чаще полыхали далекие молнии, и где-то, все еще далеко над тайгой, стонали глухие раскаты грома.
Хотела бабка шагнуть к дорожке, протоптанной позади дворов, но услыхала шаги человека и притулилась за углом овина. Шаги быстро приближались. Бабка затаила дыхание. Быстро промелькнул человек мимо овина. Но хорошо разглядела бабка, что был он в серой одежде, в ботинках и в обмотках.
Разглядела и поняла: это один из приехавших сегодня с попом из Чумалова.
Отблески далекой молнии еще раз полыхнули над деревенскими задворками и осветили серую фигуру второго человека, крадучись пробиравшегося от дворов богатея Гукова.
Прижавшись к углу овина, бабка ждала. И этот человек промелькнул по дорожке дальше. Узнала и его бабка Настасья — работник Оводова.
Еще постояла, прислушалась к тревожным ударам своего сердца. Затем, повинуясь какой-то неведомой силе, чуть слышно ступая броднями по тропочке, пошла крадучись задворками и присматриваясь впотьмах к усадьбе.
Вот справа густая, высокая конопля на ограде Кузьмы Окунева.
Вот овин Федора Глухова, рядом скирды старой соломы близ гумна богатея Ермилова. Вот дворы Клешниных, Теркина, Козловых, дальше — гумна Валежникова, его большой овин, скирды из новых, пахнущих рожью снопов.
Остановилась бабка Настасья, замерла, всматриваясь во тьму и прислушиваясь к ночным звукам. Из тьмы потянуло запахом нетопленой бани. Опять полыхнула трепещущей зарницей далекая молния и осветила очертания деревенских построек. И в тот же момент до слуха бабки Настасьи долетели приглушенные звуки человеческих голосов.
Согнувшись и неслышно ступая, пошла бабка к бане. Сдержанный говор становился все слышнее и слышнее. Вспомнила бабка Настасья, что у Валежникова недалеко от бани стоит водовозка. Отыскала ее впотьмах, И замерла, приткнувшись к колесам.
Негромкие голоса из бани долетели отчетливо.
Колчин кого-то спрашивал:
— Уверены ли вы, господин полковник, что приказ о выступлении в Чумалове будет выполнен?
Густой и низкий голос ответил:
— Больше чем уверен.
Заговорил поп:
— Насчет Чумалова не беспокойтесь, други. Я о другом думаю: выступят ли крутогорские и гульневские мужики? В Чумалове Илья Андреич Супонин работал, и мною проведена большая работа как с амвона, так и тайно. За своих мужиков я ручаюсь. Тревожит мое сердце Крутогорское. Ведь оно ближе всех к Белокудрину. Пора бы…
Попа опять перебил низкий голос, обращаясь к кому-то другому:
— Да вы, поручик, на то ли место ездили, где должна быть встреча с разведчиками?
Голос Колчина ответил:
— Так точно, господин полковник. Овраг в этой стороне один и болотце одно. Я уже докладывал, господин полковник: два раза ездил — ни души! И никаких признаков.
Опять замолчали.
Бабка Настасья с трудом переводила дыхание. Ей казалось, что навалили на нее громадную тяжесть, которая давит ее и мешает колотиться сердцу в груди. Слова людей, засевших в Валежниковой бане, словно обухом били по голове. Не все поняла бабка из подслушанного разговора. Только одно ей стало ясно: что все эти люди — секретарь ревкома Колчин, писарь Ивонин, работники богатеев и приехавшие сегодня с попом — все они офицеры.
Молния полыхала все ближе и ближе. Глухие раскаты грома грохотали над урманом.
В бане снова сдержанно заговорили.
Кто-то четвертый спросил:
— Что же делать, господа?
Ответил Валежников:
— Может, замешкались? Отложить надо до завтра…
— Ни в коем случае! — оборвал Валежникова низкий голос того, кого называли полковником. — Восстание везде подготовлено и должно начаться в назначенный срок. Отряд капитана Усова мог задержаться на дороге из Чумалова из-за дождя. А отряды из Гульнева и Крутогорска надо ждать с часу на час.
Кто-то настойчиво спрашивал:
— Но что же все-таки делать? С чего начинать?
Полковник говорил отрывисто, с передышками:
— Подождем до полночи. А в полночь начнем… независимо от подхода головных частей…
— А дождь ведь может задержать.
— Невольте дослушать! — раздраженно перебил полковник. — Мы солдаты, а не сахарные пряники. Дождь и гроза могут только благоприятствовать. Значит, в полночь начинаем. К тому времени, я надеюсь, подойдет кто-нибудь из Крутогорского или из Гульнева, а потом из Чумалова и из Устьяровки. Не задерживаясь, форсированным маршем мы двинемся к коммуне, потом к селу Мытищам и дальше — к станции Убе. Я так полагаю: послезавтра к вечеру мы перережем железную дорогу и начнем наступление на город.
Полковник замолчал. Опять раздался голос попа:
— Вполне правильно говорит Федор Васильевич. Нечего ждать! Благословясь, надо начинать. А когда подойдут подкрепления, надо двигаться на коммуну. Ведь там, вокруг коммуны и близ железной дороги, регулярные красноармейские части. Я не военный, други мои, но, по своему разумению, полагаю, что надо разбить сначала силы вокруг коммуны и самую коммуну…
— Батюшка прав, — заговорил Колчин. — Я тоже считаю ваш план, господин полковник, идеальным.
— А вы, господа? — спросил полковник.
Ответило сразу несколько голосов:
— Все равно лучше не придумаем.
— Нечего медлить! Надо начинать.
— Итак, выступаем в полночь…
Бабку Настасью трепала лихорадка. Тряслась её старая, затуманенная ужасом голова, тряслись руки, подкашивались трясущиеся ноги. Но она хорошо понимала, что затевается и каковы размеры офицерской затеи. Напряженно соображала: что ей делать? Как спасти от беды?
Еще раз блеснула молния и ярко, осветила деревню. Почти тотчас загромыхал совсем уже близко гром, от которого дрогнула и загудела под ногами земля.
Собрала бабка последние силы и, точно подхваченная бурей, понеслась обратно к своим дворам, позабыв про осторожность и про свои годы.
Последнее, что донеслось до нее от бани, был мягкий голос попа:
— Благослови вас господь-бог, други мои, на святое дело во имя…
Но этот мягкий голос точно плетью обжег бабку Настасью. Вместе с ужасом ворвалась в душу злоба и, подстегивая, погнала от бани. Впотьмах бабка запиналась за что-то, два раза падала и теряла, клюшку; судорожно шарила по земле пальцами, отыскивая ее, поднималась и снова бежала. Чувствовала, что больно ушибла правую ногу в коленке, что сбился платок на голове и растрепались волосы. Захватывало дух в груди. Глазами уже почти ничего не видела. Лишь смутно сознавала, мимо чьих дворов бежит. Вот слева потянулось что-то сплошное и черное. Поняла, что это окуневские конопли. Миновала их. Бросилась к задворкам своей усадьбы. Не помнила, как пробежала гумна и пригоны. Когда вошла в ограду, молния еще раз полыхнула над деревней и ослепила глаза. Но бабка Настасья успела разглядеть вынырнувшие из тьмы дворовые постройки, расставленные по двору телеги, лежавшего близ свиного корыта молодого бычка и дальше за ним открытую и черную пасть двери, ведущую в сени.
Над головой грохнул оглушительный удар грома и покатился, словно спотыкался, над лесом, куда-то за речку. Задребезжали стекла в доме. Крупно и редко задолбили капли дождя по крышам.
Глава 16
В черной тьме над деревней извивались огненные змеи. По горбатым крышам словно бухали тяжелые снаряды и, скатываясь сплошным пушечным гулом за речку, долго стонали где-то вдалеке, над урманом. От ударов грома дрожала земля. Вздрагивали избы и звенели оконным стеклом. Сплошным неуемным ревом падала на деревню опрокинутая река дождя. Фиолетовые огни через прикрытые ставни окна врывались в избу, подолгу и трепетно мигали на стенах, пугая просыпающихся людей.
А вооруженные мужики, под командой офицеров, шлепали броднями по лужам, корчились под проливным дождем и группами перебегали от избы к избе, пряча под полы армяков ружья и винтовки.
В потоках воды, огня и грохота зловеще стучали во дворах ружейные выстрелы.
Замаячили светляки в окнах.