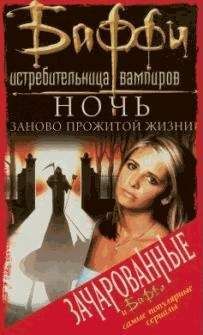Николай Атаров - Избранное
— Болоев, что тут делаешь?
— Ветер ищу!
И начальник различил в голосе и вкрадчивый осетинский выговор, и всем известную болоевскую злость.
Только под утро Болоев привел лошадь на конный двор и вернулся домой. Но он не лег спать, а стал возиться с самоваром. Сонными руками сыпал уголь, прилаживал трубу и потом часто подходил пробовать тыльной стороной кисти, согрелся ли самовар.
Он пил чай из блюдца, когда зазвонил телефон. Из цеха беспокоил Пушкарев-младший, сменный мастер; он кричал, что ночью второй конвертор перегрузили, плавки не было. И что Болоеву звонили, посылали за ним, не могли его найти.
— А где был Багашвили?
— Он очень устал, Самсон Георгиевич! — кричал Пушкарев-младший. — Вы меня слышите? Он ушел в три часа ночи, его не стали будить!
Болоев злорадно улыбнулся.
— Сейчас приду, — сказал он и положил трубку.
С этой ночи Болоев стал разгонять людей в цехе, как будто ему было тесно на конверторной площадке. Он большой, и росту ему еще добавляла папаха, и, может быть, действительно ему хотелось простора. Только меди от этого не прибавлялось.
Никогда мастера и горновые так не рвались к делу, как в мартовские дни. Болоев это чувствовал, но только ожесточался. Он толкал горновых с лестниц, оставался один, а подходило время выпуска меди, белое пламя рвалось из конверторных бочек, и он начинал прикидываться, будто не знает, что делать, стоял и растерянно глядел на пламя, потом отбегал в другой угол цеха, срывал с головы папаху и сильно обмахивался ею. Он делал вид, что его знание и опыт ни при чем, а главное — его предчувствие, догадка.
Однажды собрал вокруг себя всех, кто был в цехе, закурил сразу две папиросы, пустил дым из носу и стал смотреть сквозь синие струйки на пламя. Горновой Афанасьев плюнул, ушел домой и потом получил выговор от директора по настоянию Болоева.
В другой раз Самсон сбежал по лестнице и припал ухом к железным перилам. Он что-то бормотал по-своему и тихо стонал, вслушиваясь в гул железа, пока тот же Афанасьев, затаивший свою обиду, со всего размаху не ударил по перилам большой щербатой дразнилкой. Удар был страшен, старик схватился за ухо.
— Что, кажись, вскипело? Дошло? — спросил горновой, отбросив дразнилку подальше, и, как в тот раз, ушел из цеха.
Никто на заводе не знал, что судьба Болоева решена — решена в Свердловске, когда утром в тресте снова были получены тревожные телефонограммы. Третий день там все были готовы к отъезду на аварийный завод: и главный инженер треста, и главный механик, и главный бухгалтер, и начтехснаб, и даже личная стенографистка управляющего. А за минуту до отхода вечернего поезда в трестовском салон-вагоне появился еще один человек, который за два часа до того и не думал, что ему придется ехать. Это был мастер электролитного завода Ярошевский.
— Пожарный выезд, а что прикажете? — сказал ему управляющий в своем купе.
Ярошевский промолчал. Он был высокий и стройный, хотя и немолодой человек с землисто-серым лицом горбуна, и в этом несоответствии моложавой фигуры и остроугольного, с высокими надбровными дугами, болезненного лица было что-то внушавшее к нему уважение управляющего — независимо от высокой квалификации мастера. Он предложил ему рюмку коньяка. Они выпили за этот «пожарный выезд».
— Кстати, вы недавно женились?
— Это совсем некстати. Я женился две недели назад, — ответил Ярошевский.
Он мог бы добавить, что недавно перевел розлив вайербасов с двух ручьев на четыре и сейчас пробовал вести ремонт печей на ходу без предварительного охлаждения. Но он ничего такого не стал говорить, только заметил, что Самсон Болоев работал мастером еще у концессионеров, таких, как он, пожалуй, нет на всем Урале.
— Остались еще.
И управляющий напомнил о Феруччо. Вдвоем они посмеялись над тем, как недавно, по слухам, на свадьбе Болоева старик итальянец напился до положения риз.
Ярошевскому досталось место в купе главного механика. Там не горел верхний плафон и не было настольной лампы, а с потолка по-походному, как в палатке, свисала на белом шнуре лампочка, подтянутая веревкой к багажной сетке. И когда механик полез на верхнюю полку, он, видно, отвязал веревку, чтобы лампочка спустилась ниже и не мешала ему спать. Теперь она качалась у колен Ярошевского, он прилег на нижнюю полку, не раздеваясь, и ему было приятно, что в ногах так светло, и не хотелось думать ни о взбалмошном старике Болоеве, ни о том, что он и сам когда-нибудь постареет, только бы обойтись на прощание без баламутства.
На рассвете поезд прибыл в Меднорудянск. Салон-вагон отцепили, поставили в тупик за обогатительной фабрикой. Вытираясь мохнатым полотенцем в тамбуре, управляющий показал Ярошевскому в окно. В рассветной синеве видны были заваленные снегом моторы, пружины шахтных клетей.
— Вот эпиграф к заводу, — сказал управляющий.
Когда в цеховом палисаднике, где снег был черен от угольной пыли, Болоев увидел кучку людей в одинаковых мерлушковых шапках и нагольных тулупах, с портфелями, он безошибочно решил: приехали из треста. Управляющий узнал его издали, окликнул и сделал руками приветственное движение, как будто взболтал перед носом зажатое в ладонях яйцо. Болоев подошел, большой и несуразный, с заиндевевшими сизыми бровями, в папахе и распахнутой на груди телогрейке, в фиолетовом кашне, обмотавшем кадыкастую шею.
— Как живете, Самсон Георгиевич?
Болоев поздоровался со всеми — с каждым за руку. Заставил ждать с ответом.
— Старый стал. Здесь местность сырая, тайга, не то что на Кавказе, а я тут сижу, себя не жалею.
Он лукавил, а не жаловался, заглядывая в глаза начальства, и управляющий сразу понял, таким он и в Свердловске представлял этот неприятный разговор.
— А может, пора отдохнуть? — сухо заметил управляющий.
И Болоев, возражая, двинулся за ним впереди всей группы, возвышаясь над всеми своей заломленной на затылок папахой.
— Мне такое внимание оказали. Цауштн, из Москвы мебель прислали: шведскую кровать, тахту, гардероб с зеркалом. Телефон поставили. Еще немножко — ордер дадут на квартиру. Разве я могу уйти? Все думают — Болоев старый стал. Цауштн, Болоев еще постоит на работе.
— Сейчас придем к вам, — отпустил его управляющий.
Болоев пошел в цех. Пока шел дальним путем, через задние ворота, он вспоминал детство и отчий дом, древний, столетний дом, похожий и на многовековое дерево, и на средневековую крепость; к нему вела непроезжая кривая улочка, и было непонятно, где кончалась улочка, где начинался этот дом с его подлестничными хлевами, лестницами с трудными ступенями, внизу каменными, выше деревянными, с его балконами, пропахшими овечьим сыром и козлятиной — там у плиты век вековала бабушка, — с его большой залой с очагом посередине, где бегает босоногая детвора, его братья и сестры, и есть столбы, за которыми прячется от гостей самая маленькая сестренка. И он вспомнил, как она бегала от столба к материнскому подолу и кивком курчавой головки отказывалась от предложенного кусочка сахара, как, осмелев, заводила со взрослым гостем из соседнего аула игру в прятки. Он не хотел думать, зачем приехал управляющий со всей толпой портфельщиков и что за неприятности подстерегают его сегодня.
Между тем в цехе происходило нечто необычайное, люди теснились у конверторов. Там Багашвили разлил медь с третьего и сейчас брал последнюю пробу на первом. Искра сыпалась с лопатки — мелкая, как дождик; и пламя было белое, что означало, что в конверторе осталась одна медь. Болоев издали увидел и Пушкарева-старшего, который принимал смену у Багашвили, он пришел с братом, потому что сегодня решалось что-то важное, с утра цех дал тридцать тонн, и еще впереди предстояли плавки.
Пушкарев-младший сидел на перевернутом вверх дном ковше и заговаривал с каждым, кто шел мимо него. И Болоеву крикнул:
— Готово, я бы пускал!
Самсон сел рядом. Если бы не приезжие из Свердловска, он мог бы вернуться домой, отдохнуть. Но после того как он растерялся в разговоре с управляющим, говорил лишнее, жаловался на свои годы, он чувствовал, что не уйдет из цеха, пока не даст выход мутному озорству, которое всегда овладевало им, когда кто-то не хотел считаться с его силой и могуществом.
— Значит, готова медь? — спросил он Пушкарева. — А почем ты знаешь?
— Я знаю по пламени.
— По пламени, — передразнил Болоев. — А если по шадринским очкам?
— Нет, это, может, вы умеете, Самсон Георгиевич.
Болоев искал кого-то взглядом в толпе.
— Эй, Тамбовцев! Иди сюда!
Фурмовщик подошел к мастеру.
— Что ты ползешь, как беременная вошь?
Пушкарев рассмеялся, он любил, когда старший мастер говорил прибаутками.
— Сымай с левой ноги валенок!
Что это значит? Все услышали, оглянулись. Парторг подходил от разливочной машины. Шадрин, сунув руки в карманы спецовки, выжидательно следил за Болоевым. Тот подскочил к Тамбовцеву, толкнул его двумя руками в грудь так, что тот сел на кучу ковшевого настыля. И в ту же минуту валенок с левой ноги фурмовщика оказался в высоко поднятой руке старика. Потом Самсон подошел к лестнице, внимательно, как бы прицениваясь на базаре, оглядел валенок, вытянул левую руку в сторону конвертора, а правой рукой с валенком замахнулся.