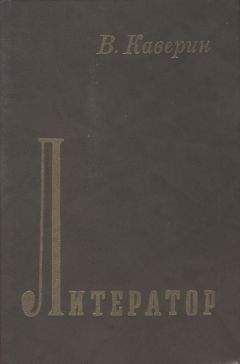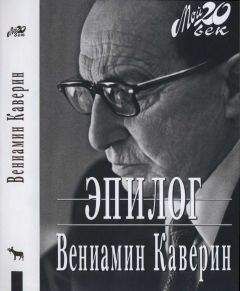Вениамин Каверин - Избранное
Поразительно, что все были как бы довольны, что ему изменяет жена. Глеб и мужчины говорили об этом презрительно, а мама и сестра — с намеками, с загадочной, удовлетворенной улыбкой. И сама Пулавская, милая, бледная, воспитанная, прекрасно игравшая на рояле, тоже беспомощно улыбалась, точно от нее ничуть не зависело, что она изменяет мужу, точно это была какая-то остроумная шутка.
Я жалел Пулавского, потому что все были против него. Но, по-видимому, он был действительно дурак, хотя бы потому, что утверждал, что с помощью спиритизма можно угадывать мысли на расстоянии. Тогда почему же он не мог, находясь в двух шагах от своей жены, разгадать ее мысли?
Он сердился, когда на спиритических сеансах начинали дурачиться. И в этот вечер тоже сердился и был похож на моржа.
Оказалось, что вольноопределяющийся, который впервые был в нашей квартире, долго стеснялся спросить, где уборная. Сестры Черненко заметили это по его поведению, блюдечко со стрелкой стало быстро крутиться, и вышло: «По коридору первая дверь налево».
Глеб хохотал, а Пулавский надулся.
— Господа, позвольте мне уйти.
Никто не мешал ему, но он все-таки остался.
У меня ныли ноги, и я сел на них, уютно устроившись в кресле. Только что начало смеркаться, а для душ умерших нужен полумрак, и Глеб задернул портьеры. У нас еще недавно провели электричество, и свет угольной лампочки не освещал, а как бы слабо желтил стол, руки, касавшиеся пальцами блюдечка, и склонившиеся лица.
Теперь все были очень серьезны, потому что Глеб предложил вызвать душу какого-то предсказателя Мартына Задеки, чтобы узнать, будет ли вскоре распущена Четвертая Государственная дума. Предсказатель умер, оказывается, двести лет тому назад, и вполне естественно, что он ответил: «Не понимаю вопроса». Потом Пулавский попытался вызвать своего покойного отца — коннозаводчика. Это сперва не удавалось. Блюдечко несло всякую чушь, но потом душа все-таки, по-видимому, — явилась, потому что Пулавский побледнел и прошептал: «Чувствую приближение». Мне показалось, что все немного побледнели.
— Скажи, отец, будет ли война? — глухим голосом спросил Пулавский.
— Будет, — ответил коннозаводчик.
— Скоро?
— Да, очень скоро.
Потом снова пошла чушь, а потом Пулавский сказал:
— Укажи, отец, кому из нас суждено пасть первым.
Блюдечко как бы задумалось, потом стало медленно вращаться и остановилось против одной из сестер Черненко. Но коннозаводчик не был уверен, что именно она должна пасть первой, потому что стрелка поползла дальше и указала на Глеба. Однако Глебу, по-видимому, тоже не хотелось умирать, потому что после некоторых колебаний блюдечко быстро завертелось и попробовало совсем выйти из круга.
Все это было, конечно, жульничество. Я не сомневался, что они просто смеются над Пулавским, особенно Глеб, — и сестры Черненко, и Лиза, и вольноопределяющийся, который отлучился ненадолго и вернулся веселый. Наконец стрелка остановилась против Пулавского, и он трагически прошептал: «Ну что ж, божья воля».
…Пора было спать, а я все сидел в кресле, глядя на них слипающимися глазами. Они заспорили о материализации и вызвали Петра Великого, чтобы с его помощью решить этот вопрос. Петр попытался было увернуться, но потом все-таки сообщил, что готов явиться одному из нас.
Конечно, это тоже была выдумка Глеба, потому что стрелка повертелась немного, а потом остановилась между сестрами, указав на тот темный угол, в котором я сидел, забившись в кресло с ногами.
— Странно, — фальшивым голосом сказал Глеб.
Все посмотрели на меня. Я сильно покраснел и встал.
Это уже было не просто жульничество, а свинство, потому что Глеб прекрасно знал, что я боюсь темноты. Я даже советовался с ним, как бороться с этим чувством, и тогда он отнесся серьезно, потому что видел, что мне трудно сознаться, что как-никак, а я все-таки трус. Но теперь он сказал:
— Погасим свет. — И добавил: — Ты не боишься?
Я не просто боялся, а дрожал как осиновый лист, и мне хотелось со всех ног удрать из столовой. Но это было невозможно, и я удержал себя, заставив ноги стоять, а дрожащие губы небрежно выговорить:
— Конечно, нет.
Глеб погасил свет, все вышли на цыпочках, я остался один. Свет уличного фонаря стал виден не сразу, сперва где-то между портьерами. Было очень тихо, только газетчик прокричал на Сергиевской, под нашим балконом: «Экстренный выпуск!» Я стоял, помертвев, и теперь уже наверное знал, что сейчас портьеры раздвинутся и встанет Петр — в ботфортах, огромный, в шляпе с загнутыми меховыми полями, с белым лицом, на котором страшно чернеют усы. Что-то звякнет, и он шагнет ко мне, глядя прямо перед собой невидящими глазами…
Все вернулись, зажгли свет и стали спрашивать меня — все-таки с беспокойством. Лиза что-то сердито сказала Глебу. Он спросил: «Испугался?» Я нарочно хотел засмеяться, чтобы показать, что ничуть. Но дыхание прервалось, и, подойдя к Глебу, я изо всех сил закатил ему оплеуху.
Это было все равно, как если бы я ударил самого господа бога, потому что я не просто любил, а обожал старшего брата. Мне было уже двенадцать лет, я был во втором классе, гордился, что читаю Леонида Андреева, но приезжал Глеб — и я становился как бы совсем маленьким, точно учился не во втором, а, скажем, в приготовительном классе. Я не задумывался над этим чувством преклонения перед Глебом. Но бессознательно я подражал ему и даже иногда как бы становился им, по крайней мере в воображении. Поэтому то, что я дал ему оплеуху, было неожиданным и страшным крушением прежних отношений между нами, то есть того, что он почти не замечал маленького брата, а я готов был гордиться даже этим обидным равнодушием.
С искаженным от ужаса лицом я бросился из столовой и, не зная, куда спрятаться от Глеба, который — так мне показалось — сейчас убьет меня, побежал в переднюю. Нянька открывала кому-то парадную дверь. Взволнованный отец Кюпар вошел со словами:
— Всеобщая мобилизация, господа. Мы предъявили Австрии ультиматум.
Отцу выдали походный сундучок, флягу, складную койку. На внутренней крышке сундучка за кожаными петлями торчали ложка, вилка с ножом и тарелка. Койка была хорошая, легкая, мы с Пашкой быстро научились собирать и разбирать ее, так что отец пошутил, что следовало бы взять нас с собою. Он все как-то покряхтывал, и было видно, что ему не хочется на войну. Он мог остаться, потому что ему было больше пятидесяти лет, но тогда пришлось бы выйти в отставку, а он служил в армии всю жизнь и считал, что нет ничего лучше, чем военная служба.
— Армия, армия, армия — только! — говорил он.
Через два дня он стоял, махая палочкой, перед своей командой на псковском вокзале. Бабы плакали, и в невообразимом шуме паровозных гудков, громыханья колес, топота ног солдат, вбегающих по доскам в товарные вагоны, веселый марш Преображенского полка был почти не слышен. Солнце поблескивало на медных тарелках, которые часто и звонко ударялись одна о другую. Отец старательно, махал палочкой, и мне было неловко за него, точно он вместе со своей командой притворялся, что не замечает плачущих баб, растерянности, пыли над перроном, всего, что вдруг стало называться войной.
В открытой коляске с лакированными пыльными крыльями приехал командир полка Дашкевич-Горбатский. У него тоже были усы, но не острые, как у отца, а как бы распространявшиеся по лицу. Все смотрели, как он ловко соскочил с коляски, протянул руку жене, а потом с бравым видом подошел под благословение архиерея. Мне показалось, что и архиерей благословил его как-то лихо. Оркестр умолк. Все снова стали прощаться. Бабы заплакали, закричали. Но эшелон стоял еще долго — часа полтора.
Отец подошел. Мне хотелось пить; он налил из своей фляги чаю в отвинчивающийся металлический стаканчик. Он был озабочен, негромко говорил с мамой, но мне казалось, что теперь ему уже нравится идти на войну.
Наконец командир полка стал прощаться с женой, которая была во всем белом, кружевном, в шляпе с птицей, сидевшей на широких полях. Они поцеловались, а потом картинно, крест-накрест, поцеловали друг другу руки.
Оркестр, который почти все время играл, хотя его никто не слушал, погрузился в вагоны, поезд тронулся, и вместе с ним двинулась вдоль перрона вся шумная, пыльная, кричавшая, плакавшая толпа.
Отец еще был виден среди офицеров, стоявших на подножке. Он махнул нам рукой. Мама сняла пенсне и молча вытерла слезы.
Скрипка Амати
Самый большой в городе граммофон с трубой, на которой была нарисована наяда, стоял в доме полковника Чернилиовского, начальника псковской тюрьмы, маленького, изящного человека, затянутого в корсет, с пушистыми усами на нежном лице. Механическое пианино исполняло концертный вальс Дюрана, который, как сказал мне Пашка, был по плечу только Падеревскому, да и то когда он был в ударе. Вольнонаемный регент тюремной церкви получал от полковника ценные подарки. «Специально-музыкальный магазин» на углу Великолуцкой и Плоской выписывал для него ноты из Вены.