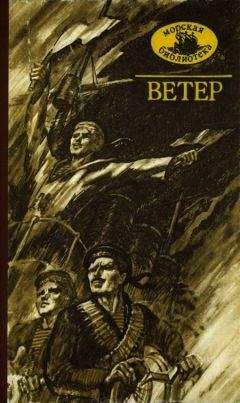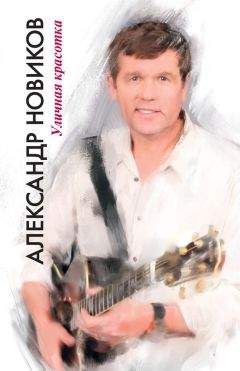Александр Серафимович - Том 2. Произведения 1902–1906
Золотой телец*
Недалеко от Азовского моря в донских степях стоит город Ростов-на-Дону. Это – американский город по своему чудовищному росту в предыдущие десятилетия, по своим торговым оборотам, по своим особенностям. В узле железных дорог, на судоходной реке, в центре богатейшей хлебородной местности, он ворочает огромными капиталами. Это город чистых буржуа.
Прасолы, мелкие торговцы, мужики в лаптях, авантюристы, поденщики, люди с темным прошлым лет тридцать – сорок тому назад пришли искать сюда счастья. Теперь эти господа ходят во фраках, в цилиндрах, ездят на резинах, обучают детей в высших учебных заведениях. Выросши из ничтожества в миллионеры, эти люди поклоняются только одному богу, признают одного повелителя, ищут одного счастья – деньги. Здесь все покупается: любовь, дружба, знакомства, человеческие отношения. Без традиций, без прошлого или с прошлым, которое всеми силами стараются забыть, эти люди, собственной жизнью познавшие всю колоссальную власть денег, иначе ни к чему и не могут относиться.
До какой степени безраздельно царствует здесь золотой телец, ничем не осложненный, не прикрытый, показывает участь попадающих сюда так называемых интеллигентов – людей свободных профессий, с высшим образованием. Могучая среда неотразимо нивелирует их, и через два-три года большинство из них становится в полном смысле аборигенами города.
Мне бы не хотелось, чтобы читатель думал, что я преувеличиваю, что это – карикатура. Везде деньги – господа, но в центральной России трудно представить себе город, подобный Ростову-на-Дону.
Это город буржуа, русских буржуа. Он в этом смысле ярко типичен, и потому я на нем остановился. Нигде особенные свойства русского буржуа не доведены до такой крайности, как здесь.
Здесь все для состоятельного класса и ничего для населения в широком смысле слова. Прекрасные мостовые, электрическое освещение, широкие панели, бульвары, многочисленная ночная стража безопасности, помимо полиции, в центральной части города, где живет денежная знать, и ужасающая невылазная гомерическая грязь в остальной части, кромешная тьма, – и в этой тьме режущие душу крики «караул»… ограбляемых и убиваемых обывателей. Прекрасный театр с такими ценами, которые исключительно допускают туда богатых, и отсутствие в полуторастатысячном городе с огромной массой рабочего населения даже народных чтений. Развитая пресса, как орудие в руках табачных фабрикантов, хлебных маклеров, банковских дельцов.
Разврат утонченный, дорогой, требующий сотен, тысяч, десятков тысяч рублей, возведен здесь в культ, и едва ли где в таких размерах практикуется торговля невинными девушками, как здесь.
Люди, дорвавшиеся до денег, до общественного положения, до власти, даваемой миллионами, жадно и грубо спешат взять от жизни все, что можно.
Во всех проявлениях ростовец остается верен себе. Он жертвует на построение церкви, начинает строить, и на постройке из стекающихся пожертвований ухитряется выколотить себе хороший барыш. Съедаемый тщеславием, в погоне за орденом, медалью, он жертвует на городскую больницу тысячи, десятки тысяч рублей, строит павильоны своего имени, больница гремит на всю Россию, но здесь нет ни капли прочного общественного элемента. Это прихоть тщеславного миллионера, и ныне та же больница в одном из богатейших городов представляет нечто ужасающее: чудовищно переполняющие ее больные лежат вповалку на вплотную сдвинутых по всей палате кроватях, как на нарах, лежат в коридорах, лежат на полу, негде ступить, задыхаются в промозглом воздухе. Дети, заразные, хроники, старики перемешаны, как сельди в бочке. Да иначе оно и не может быть, раз отрасли городского хозяйства зависят от частной благотворительности, от каприза частного лица, а не от общественного управления.
Те же самые миллионеры, из среды которых находились жертвователи на больницу, теперь беззастенчиво эксплуатируют эту больницу. Фабриканты, заводчики обязаны иметь для своих рабочих больницы. Они и имеют, только рабочих-то туда не пускают, и они направляются в городскую; таким образом, собственные больницы требуют от фабрикантов и заводчиков ничтожных расходов, а городская превращается в трущобу.
Поставщиками в городскую больницу являются гласные думы, и цены достигают чудовищных размеров.
Иного невозможно, впрочем, и ожидать, раз вершителями судеб города является кучка буржуа чистой воды и раз все остальное население отодвинуто от общественного управления. Ростов-на-Дону является типом, портретом вообще русского города, только портретом неподкрашенным, голым.
Слепая кишка*
Язык, как и все органическое, растет, развивается. Рост и развитие его заключается в том, что, упрощаясь технически, он становится совершеннее, как орудие передачи наших мыслей. Наш язык за два текущие столетия стал неизмеримо гибче, послушнее в выражении понятий, богаче оттенками, и в то же время пропали всякие юсы, давнопрошедшие и прочее.
Но это развитие, как и развитие органического мира, вовсе не идет гладко, без сучка и задоринки. Когда у животного становится бесполезным какой-либо орган, он постепенно атрофируется от неупражнения, но еще долго живет на организме, как ненужный придаток. Человек без толку, неизвестно зачем таскает в себе никому не нужную, бесполезную, часто вредную слепую кишку.
То же самое с языком, с технической его стороной. Разные эти буквы: ять, ер, фита, двойные буквы и многое другое давно сделались слепой кишкой, а мы их таскаем, неизвестно зачем и для чего. Припомните только, какую массу труда вы отдали в детстве на усвоение, на закрепление этой кишки.
Мир так сложен, богат, разнообразен, детская душа, как губка, жадно впитывает все живые его впечатления: нельзя терять ни одного дня, ни одной минуты, ибо детство промелькнет неуловимой чертой, а мы нагружаем его мертвым бесполезным грузом и медленно и уныло заставляем влачить. В сутолоке повседневной жизни мы забываем об этом, но когда приходится встречаться с детишками, с широко открытыми, непонимающими глазками, долбящими никому не нужные вокабулы; когда встречаешься с учителями, с тоской вбивающими в их головы эти вокабулы, с изумлением останавливаешься перед колоссальностью этой нелепости.
В обществе, в печати не раз подымался вопрос по этому поводу. Между прочим, московское земство в последней сессии подняло вопрос об упрощении преподавания грамматики. Вопрос этот не обсуждался в силу чисто внешних причин. И там люди с изумлением останавливались перед колоссальностью бесполезной, никому не нужной траты детских сил.
Возразят: и зачем огород городить, раз это остается голосом вопиющего в пустыне? Да, сильна и крепка слепая кишка, но… gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo[3].
Дети*
Скучные, скучные, серые, мертвые дни. Вчера, как сегодня; сегодня, как завтра. Класс, потом дома обед, потом надо садиться за уроки. А уроков много, а уроки трудные. Чтобы выучить добросовестно, надо сидеть до десяти, до одиннадцати часов ночи, надо встать утром пораньше и повторить.
И потому, что их много, и потому, что они трудные, учить не хочется. Хорошо бы теперь выбраться за город, в лес, на озеро. Нельзя, не пустят, надо учить. И все кругом такое обыкновенное, такое скучное, такое будничное – стены, обстановка, прислуга.
Но, как птица из клетки, детский ум и воображение рвутся из серой будничной жизни. Ведь есть же какая-то иная, яркая, живая жизнь, сверкающая, как на солнце поверхность бегущего ручья. Уже по тому одному она есть, должна быть, что неудержимо рвется, жаждет и тянется к ней, как чашечка цветка к свету, детская душа.
И это неудержимое стремление к иной, бьющейся, живой жизни непременно должно так или иначе найти выход, так или иначе разрешиться. Разрешается оно трояко.
Все ребятишки распадаются сообразно этому на три части: две большие и одна маленькая. В первой части детишки, задавленные семьей, школой, всей будничностью окружающей обстановки, забывают о той особенной, яркой, зовущей их жизни, делаются серыми, будничными, благонравными детьми. Порядочно или даже хорошо, с наградами учатся, порядочно ведут себя. Потом вырастают, делаются серыми, порядочными врачами, юристами, пьяницами, общественными деятелями, рожают детей, стареются и, когда кому придет черед, помирают.
Ребятишки второй большой группы не могут отказаться от исканий живой жизни, не могут помириться с серыми домами, с серыми улицами, с серыми лицами, с серыми человеческими отношениями, они забываются в серой будничной атмосфере. Но они не могут преодолеть замыкающую их серую обстановку, у них наследственно не хватает дееспособного начала, и они, не будучи в состоянии подавить в себе неутомимой жажды иной, яркой жизни, спасаются суррогатом ее. Детская душа начинает развиваться криво. Напряженно, в ущерб другим способностям, работает воображение. Ребятишки, сидя в комнате, скрываются в степи и лесах героев Майн-Рида, Фенимора Купера, скитаются по морям и океанам с Жюль-Верном, взбираются на неприступные горы, исследуют непроходимые пустыни, блуждают по тропическим лесам, сражаются с дикарями, охотятся, спасают несчастных, не отрываясь от книги. Воображение гипертрофируется, становится изумительно ярким и болезненно-чувствительным. Стоит только взяться за книгу, как ребенок переносится целиком с головой, ногами и телом в совершенно иной мир. Семья, школа, все окружающее перестает для него существовать. И из этого мира их невозможно извлечь ни наказаниями, ни уговорами.