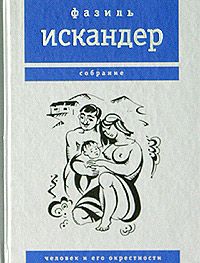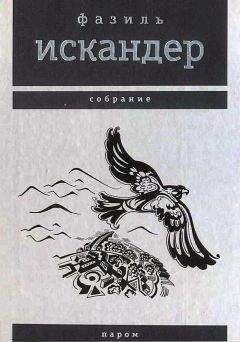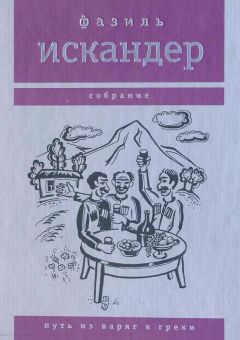Фазиль Искандер - Софичка
Зина громко чихнула и, расхохотавшись, взялась за тряпку. Книги, сохранившие обложки, тщательно протирались и водружались на кровать. Книги же, лишенные обложки, не только не удостаивались быть протертыми тряпкой, но сами встряхивались, как тряпочки, и укладывались на кровать. Три из них, наиболее ветхие, не выдержав такой физкультуры, частично лишились своих потрохов, а она, поощряемая нашим хохотом, возвращала им внутренние органы, не слишком заботясь об их естественном расположении. С выражением на лице: «Сами разберутся, если живы!» — она поспешно вкладывала в них вывалившиеся страницы, отправляла на кровать и бралась за новые. Коля, конечно, этого не видел.
Колина половая тряпка, найденная после долгих поисков под топчаном на веранде и с большой осторожностью отодранная от пола, совершенно не гнулась и была похожа на обломок глиняной стены со следами клинописи, не поддающейся расшифровке. Пытаясь вернуть ее к жизни и придать ей если не первоначальную, то хотя бы какую-нибудь эластичность, мы положили ее под колонку и пустили воду, рискуя не только смыть следы клинописи, но и вообще растворить в воде ее новую субстанцию.
Заняв половые тряпки у соседей, мы принялись отмывать полы. Когда я первый раз с ведром, наполненным грязной водой, подходил к помойной яме, я увидел дочь Александра Аристарховича. Шагах в десяти от меня, спиной ко мне, она стояла, прислонившись к шелковице, и всхлипывала. Появление Зины в доме у Коли, да еще эта хозяйственная суета, а главное, что она облачилась в халат его матери, явно надломили ее.
Возвратившись в дом, я рассказал Коле об увиденном. Коля отбросил книгу и взвился, устремляя ярость по поводу нашего вторжения в свой Карфаген.
— Этот невежда, — закричал он, — злится на меня за то, что я избавляю его дочь от невежества! Я дал его дочери почитать книгу Гусева «Нравственный идеал буддизма». Этот кретин вернул книгу и стал объясняться. Сегодня я над ним издевался как никогда! «Коля, — сказал он, — зачем вы забиваете голову моей дочке реакционными вероучениями? Она же будущий педагог!» — «Помилуйте, — говорю, — Александр Аристархович, по этому вероучению уже две с половиной тысячи лет живет треть человечества! Вам же, конечно, известно, что Гаутама Будда, кроме того что был великим философом, лечил больных и защищал угнетенных примерно за две тысячи четыреста лет до Маркса? Ведь вы же не станете отрицать признанное всеми историками, что правление первого буддийского царя Ашоки было самым гуманным, разумеется, для того времени, а не для нашего?!»
Он надулся и сказал: «Это реакционное вероучение облегчило английскому империализму захват Индии».
Такого перехода я даже от него не ожидал. Ну, тут я ему выдал.
— Да, — говорю, — Александр Аристархович, относительно того, что буддизм зародился в Индии, вы попали в точку. Но и точка, согласитесь, достаточно крупная. А в остальном вы не правы. К сожалению, Александр Аристархович, вам никогда не стать Буддой! Буддой, Александр Аристархович, вам не стать! — Он, конечно, не знает, что Будда означает — просвещенный, не знает! Не знает!
— А я, Коля, и не претендую, — говорит он, — это мне странно даже слышать. Я только прошу насчет дочки…
— Нет, — говорю, — Александр Аристархович, Буддой вам никогда не стать!
Он ушел, видимо, решив, что я рехнулся, и наказал дочь, она и плачет.
Пока Коля рассказывал, мы переглядываясь, хохотали. Смех наш был следствием юмора, рикошетирующего от его рассказа к уборке его библиотеки. Дело в том, что одной из трех книг, не выдержавших Зининых встряхиваний, и была книга «Нравственный идеал буддизма». Хотя бедному проповеднику были полностью возвращены внутренние органы учения, однако явно не в первоначальном порядке. Так что, попадись Александру Аристарховичу эта книга после нашей уборки, он уже с полным основанием мог бы обвинить учение Будды в некоторой логической путанице.
Дополнительным источником юмора к рассказу Коли служило его собственное восприятие нашего смеха: то ли он стал намного остроумней, то ли мы, поумнев от соприкосновения с его книгами, лучше стали понимать его? Он так до конца и не решил, время от времени тревожно поглядывая на свою сестренку, которая слегка опьянела от всей нашей суматохи и каждый раз хохотала вместе с нами.
Наконец, отсмеявшись, мы взялись за половые тряпки. Пол, надо было еще до него добраться, наконец выскребли и вымыли. Под слоем многолетней грязи, как на раскопках, обнаружили великолепный паркет. Мебель была протерта, стены очищены от рыболовецких сетей паутины вместе с усохшими трупиками уловов, а книги стопками уложены возле книжных шкафов.
Незадолго до конца уборки Женя куда-то исчез и через полчаса вернулся с бутылкой вина и стал осторожно, как бокалы, выкладывать из карманов электрические лампочки. Издевательски бормоча: «Принесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры», он вывинтил на веранде и в комнате тусклые, замызганные лампочки и ввинтил сияющие, многосвечовые. Нас всегда удручали Колины лампочки, но мы как-то примирились с этим, чувствуя, что, если по этому пути идти, слишком многое придется преодолевать.
Мы весело распили бутылку вина. Коля, как всегда стоя, провозгласил первый тост за здоровье его величества короля Англии, подданные которого с полным правом утверждают, что их дом — это их крепость, поскольку к англичанину никто не может ворваться и под видом генеральной уборки устроить у него в доме повальный обыск.
Тут Женя в связи с тостом Коли вспомнил, что он, возвращаясь после покупки вина, подошел к колонке и полюбопытствовал о судьбе Колиной половой тряпки. По его уверению, она уже вяло пошевеливается под струей воды, хотя и уменьшилась до размеров мужского платка.
Он напомнил, что у Коли с носовыми платками всегда обстояло, мягко выражаясь, туговато, и предложил ему скорее вытащить ее из-под струи, а то за ночь она там полностью растворится или, что тоже не исключено, ее просто сопрут.
Тут вставился Коля, уже готовивший кофе над керосинкой, особенно радостно коптившей под обновленной верандой. Он давал голову на отсечение, что если кто и похитит его таинственное сокровище, то только не Александр Аристархович. Если, придя на утренний водопой, он обнаружит ее под колонкой и со свойственной ему проницательностью примет ее, к этому времени соответственно уменьшившуюся и даже побледневшую, за большой лепесток магнолиевого цветка, слетевшего с дерева, он может только взять ее в руки, понюхать, удивиться ее запаху, обрадоваться, что удивление его по поводу странности ее запаха в еще спящем доме никто не заметил, и, решив, что на данном этапе цветам магнолии дано указание именно так пахнуть, положит ее на место.
Закончив свой монолог, Коля разлил нам кофе по чашечкам и как всегда поставил свою турку прямо на стол, уже неоднократно, как старый каторжник, клейменный ее раскаленным днищем. По этому поводу Женя сказал, что если уж Коля дал буддийский обет никогда в жизни не пользоваться носовыми платками и если половая тряпка, уменьшившись до размеров носового платка, сохранила при этом свое великолепное свойство в сухом виде каменеть, то ее с завтрашнего дня можно использовать как подставку для Колиной турки. Его коптящая керосинка, заметил он, может быть использована для окончательного обжига уже окаменевшей тряпки. На этом импровизации на данную тему, вдохновляемые смехом Зины, были как будто исчерпаны.
Напившись кофе, Коля окончательно примирился с нами в духе буддизма и уже в собственном духе прочел нам лекцию о жизни и учении своего любимого Гаутамы.
Наши отношения с Зиной, мучительные своей неопределенностью, в ту памятную на всю жизнь весну вдруг изумительно прояснились. Сейчас, когда я думаю о лучших минутах моей жизни, я вспоминаю не сладость первых поцелуев, а ее, когда она, быстро стуча каблучками, отбрасывая скользящей по перилам рукой фиолетовые кисти глициний, вихрем свежести слетала ко мне со второго этажа своего деревянного дома. Или позже, уже осенью, как бы со стороны, вижу нас обоих, притихших и взявшись за руки идущих по чистой улочке, усеянной листьями платана, шуршащими под ногами.
— …Я поняла, что это навсегда, понимаешь, навсегда и потому испугалась, — говорила она в наш первый вечер вдвоем. А потом сама поцеловала меня и добавила: — Ты папе тоже понравился…
Я ничего не говорил друзьям, но все было ясно и так. Милый Женя продолжал улыбаться своей лукавой улыбкой и по привычке трогал свои драгоценные кудри, словно убедившись, что они на месте, убеждался сам, что мои успехи временны.
Алексей важно отвел меня к подножию магнолии и, покраснев и опустив голову, приказал:
— Дай клятву любить ее всю жизнь. Я дал.
А Коля, конечно, был верен себе, хотя долго делал вид, что ничего не замечает.