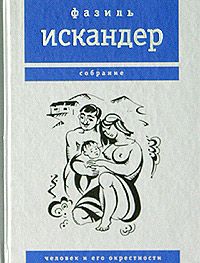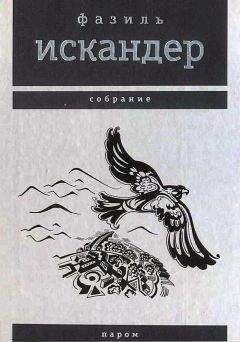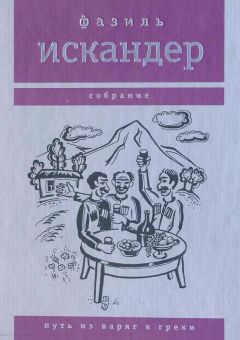Фазиль Искандер - Софичка
Одним словом, начался золотой кошмар. Дело дошло до того, что однажды вечером, идя к ней домой, я каким-то образом проскочил ее улицу и в городе, где каждый переулочек исходил сто раз, запутался. Это было невероятно. И от самой реальности этого безумия я совсем потерял голову и блуждал в ужасе, что вот так и не найду ее дома и не увижу ее сегодня.
В конце концов мне хватило сообразительности решить, что если я буду спускаться вниз по улице, то обязательно выйду к морю и тогда разберусь, что к чему. В страшном возбуждении я добрался до моря, и, словно могучая стихия сразу оздоровила меня, я мгновенно узнал часть берега, на которую вышел, и все стало на свои места, все улицы, глядевшие на меня с выражением враждебной странности, превратились в старых, милых знакомцев. Это было какое-то наваждение. Черт попутал, говорят в народе.
Зина жила в верхней части Мухуса на тихой, обсаженной платанами улочке. Небольшой травянистый двор, виноградная беседка и двухэтажный деревянный дом, на верхнем этаже которого ее семья занимала трехкомнатную квартиру. Часть стены, обращенная к улице, и вся лестница были оплетены глицинией. Видно было, что хозяин дома, у которого они снимали квартиру, любовно следит за своим зеленым усадебным островком.
К этому времени все мои друзья успели признаться ей в любви и все получили мягкий отказ. Так что дружеские отношения не менялись. Было похоже, что друзья мои готовы заново пройти программу влюбленности, снова признаться ей в любви и, как бы сдав переэкзаменовку, перейти в счастливый класс.
— Тоже мне, дворяне из девятнадцатого века, — ворчал Коля, получив отказ, — наш род княжил с пятого…
И тут же взвился, вспомнив соседа:
— Мир еще не знал такого подлеца! Вчера играем с ним в шахматы. Его король буквально зажат моими фигурами. Но надо мной висит мат в один ход ладьей. Стоит мне сдвинуть пешку, и этот липовый мат сгинет. Но я решил: зачем, когда я его сейчас заматую? Я: — Шах! — он, подлец, находит клетку. Я: — Шах! — он, подлец, опять находит клетку. И тогда я, забыв, что надо мной висит, делаю предварительный ход, чтобы покончить с ним вторым ходом. И тут он тупо ставит мне мат. Ну, я зеванул! Браво! Браво! Керенский на белом коне! Так этот подлец знаете что мне говорит в утешение: «Все равно у вас было все плохо». Это у меня было все плохо?! Я чуть сознание не потерял от возмущения! И эти люди с таким пониманием реальности правили Россией?! Правда, недолго! Не триста лет! Даже не триста дней! Джугашвили, где ты? Возьми его!
Кстати, чуть не забыл. Однажды Александр Аристархович, заметив, что мы на веранде играем в шахматы, оставил свои ведра и поднялся к нам. Он стал с нами играть, и руки у него в самом деле заметно дрожали, хотя это было вполне терпимо.
Все мы ему проиграли, и только один Женя, не обращая внимания на его руки, выиграл. Он играл примерно на нашем уровне, но гораздо меньше нас проявлял интерес к шахматам. У Александра Аристарховича ему захотелось выиграть, и он выиграл.
— У вас оригинальное шахматное мышление, — сказал ему Александр Аристархович, — вам стоит всерьез заниматься шахматами.
— Да, — согласился Женя и начал дурачиться, — девушки так и говорят про меня: «Наш Алехин».
— Вы тренируете команду школьниц? — спросил Александр Аристархович.
— Тренирую, — подхватил Женя, — в моей команде есть и две студентки. С дебютами у нас все хорошо. Но дальше беда! Они никак не хотят идти на жертвы.
— Умение жертвовать, — важно заметил Александр Аристархович, — это достаточно высокая стадия шахматного мышления… Ничего… Со временем научатся…
Видя наши корчи, он что-то почувствовал, но не мог понять что.
— Остается надеяться, — вздохнул Женя, — но ведь лучшие годы проходят, Александр Аристархович. Согласитесь, обидно.
— Ну, что вы, у вас все впереди, — засмеялся Александр Аристархович, продолжая что-то чувствовать. — Спасибо, ребята, за удовольствие. Я пойду…
С этими словами он покинул веранду, всей своей солидно удаляющейся фигурой как бы говоря: нет, нет, все было прилично.
…Однажды во время вечеринки у Зины в комнату вошел ее отец. Кроме нас, там было еще несколько мальчиков и девушек. Некоторые танцевали. Отец ее оказался мужчиной среднего роста, ладным, спортивным, с быстрыми насмешливыми глазами. Мы о нем знали только то, что он крупный банковский чиновник.
— Рад познакомиться, — сказал он мне просто, — я давно знаю вашего отца.
Он оглядел комнату дочки. На диване в окружении мальчиков и девушек сидел Коля и витийствовал. Рядом стоял Алексей. Тогда как раз был у них период страстного увлечения символистами, которых Коля при полной поддержке Алексея через полгода проклял. Идея проклятия была такая: декаданс из искусства, как зараза, перешел в политику и оттуда проник во дворец в виде гигантского микроба, Распутина. Благодаря всему этому часть нации потянулась к лжездоровью понятно кого. Но это потом, а сейчас сквозь музыку «Рио-Риты» доносился страстный голос Коли:
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры…
Алексей слушал его с выражением горестной сумрачности, всем своим обликом показывая жертвенную готовность взвалить на свои плечи увесистые светильники культуры.
— Это, конечно, князь, — быстро определил отец Зины, — а брюки кто ему мешает погладить, большевики? Или это знак протеста? А этот мрачный малый, вероятно, бомбист!
Он перевел взгляд на танцующих. Женя, конечно, танцевал, но не с Зиной, а с одной из ее подружек. Танцевал он прекрасно и, время от времени с улыбкой наклоняясь к своей девушке, что-то ей интимно нашептывал. Потом он вдруг озирался, близоруко щурясь, находил глазами Зину, бросал на нее несколько тоскующих взглядов и снова, склонив свою лобастую голову, начинал что-то нашептывать своей девушке.
— А это, видимо, ваш художник, — кивнул отец Зины на Женю, — хорошо танцует… Хорош… Хорош… Так, так… Понятно… И о хлебе насущном не забывает, и о дальней цели помнит.
Я расхохотался, до того точно он схватил облик Жени. Услышав мой хохот, Зина бросила своего мальчика и подбежала к нам.
— Что папа сказал? Что? — пристала она ко мне, переводя свой сияющий взгляд с меня на отца. Я ей передал слова отца, и она, закинув голову и блестя зубами, стала смеяться всем лицом, всем телом, как смеялась только она. От смеха не в силах вымолвить ни слова, она кивками головы подтверждала тонкость наблюдений отца и, продолжая смеяться, повернулась к танцующему Жене. Женя, услышав взрыв ее хохота и видя, что она смотрит в его сторону, придал своим танцевальным движениям оттенок усталого, вынужденного автоматизма и издали болезненно ей улыбнулся, как бы говоря: радуюсь твоему смеху, превозмогая собственные страдания. Это его новое выражение лица вызвало новый взрыв смеха, тут Женя, почувствовав какую-то опасность, перестал улыбаться и, подтанцевав к нам, спросил у меня:
— О, менш, воцу дер лерм?
— Ой, папа, — сказала она, наконец вздохнув и слегка прикрывая ладонью губы отца, в том смысле, чтобы он все-таки не слишком далеко заходил в своей критике и не обижал Женю.
Кстати, чуть не забыл. Женя читал нам стихи, посвященные Зине. Вообще перед тем как читать новые стихи, он имел привычку говорить одну и ту же фразу:
— Похвалу принимаю в любом виде. Критику — только умную.
Стихи, посвященные Зине, казались мне прекрасными. Когда он их читал, меня охватывало пьянящее ощущение одновременно восторга и ревности. Удивительно было то, что к живому Жене с его ухаживаниями я не чувствовал ревности, а к стихам чувствовал. В стихах казалось, что он глубже ее понимает и потому достойней ее. Это было так странно совмещать с его насмешливым обликом. И все-таки восхищение всегда побеждало ревность. Я от души восторгался его стихами. Мне и сейчас думается, что для шестнадцатилетнего мальчика он писал просто хорошо.
И тоску никуда не затискаю,
Всюду, всюду глаза с поволокою.
Никогда не была она близкою,
А теперь стала вовсе далекою.
А сейчас снова об отце Зины. В другой раз, войдя в комнату дочери и увидев у меня в руке томик Зощенко, он взял его у меня, листанул оглавление и, возвращая, сказал:
— Ваш знаменитый Зощенко…
— А вам не нравится? — спросил я.
— Конечно, юмористика, — сказал он и вдруг добавил: — Когда нация в бесчестии, у нее два пути: или учиться чести на высоких примерах, или утешаться, читая Зощенко… Но не будем заниматься политикой, лучше пойдемте в кухню лепить пельмени. У нас сегодня будут настоящие сибирские пельмени.
Он потащил нас на кухню лепить пельмени, с большим юмором, знаками давая нам понять, чтобы мы не тревожили Колю. Юмор заключался в том, что он свои гигиенические соображения выдавал за уважительный трепет перед учеными разговорами. Коля в это время, сидя на диване, проповедовал девушкам своего любимого Гаутаму Будду, учение которого прямо-таки отскакивало от юных девушек, а Коля вдыхал аромат пыльцы, сбитой этими отскоками. Милые лица девушек словно говорили: «Ты нам немножко Будды, а мы тебе немножко пыльцы».