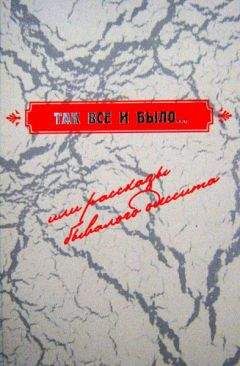Леонид Воробьев - Недометанный стог (рассказы и повести)
Ну и поплутал я. Потом прикидывал, каким это образом я шел, так выходит, что больше тридцати километров набродил, много больше. Сам весь, несмотря на ветер и мороз, в поту. Одет был тепло. А ноги мерзнут. Хоть и утепленные, а все же ботинки.
Забрел не знаю уже и куда. Не понимаю, где я. Из сил выбился. Дело к ночи пошло, метель вроде стихать начала. А мороз крепчает. И стало меня в сои клонить.
Я же деревенский, разбираюсь, когда это в чистом поле в метель да холод в сон клонит… А заставить себя идти не могу. Ноги как деревянные. Присел я на корточки и стал задремывать.
И вдруг явственный голос мамы моей слышу: «Петенька, сыночек! Подойди, миленький. Дай в последний разик взгляну на тебя. Ну, подойди!» И так настойчиво, так жалобно. Да не один раз.
Словно меня кто за шиворот рывком поднял. Сообразил я, что замерзаю, что мать зовет меня: посмотреть, увидеться в последний раз перед моей смертью. Рванулся, в снег проваливаюсь, но чуть не бегу из последних силенок. А метель кончается, звезды проглянули. А голос матери опять зовет. И вдруг прямо в чей-то двор уткнулся. А очнулся уже в избе, в другой, значит, деревне, километров за десять от нашей. А совсем пришел в себя в больнице.
Петр задумался, казалось, надолго. Похоже, и рассказывать кончил.
— А дальше?
— А дальше — вот! — Он кивком головы показал на ноги. — Ладно еще так сохранили, с клюшкой все-таки хожу. Могло быть хуже. Короче говоря, спасла меня мама. Рядом бы с самой деревней замерз.
— При чем же мать? — удивился я. — Ну, почудилось… Бывает.
— При том, — твердо сказал Петр, глядя мимо меня на приближающийся берег. — При самом при том, что только после операции мне сообщили, что в ту самую ночь мама моя умерла. Я, понятно, о том, что мне ее голос слышался, никому не сказал. А мне вот сказали, какие были ее последние слова. Так они же из буквы в букву те и были, что я слышал. Вот так!
Солнце вовсю сияло на чистом небе, последние облака уходили к горизонту. Озеро, городок, куполообразные взгорья, монастырь, наш теплоходик — все празднично засветилось в прозрачнейшем майском воздухе. Оживились пассажиры. И как-то смягчился, сгладился угрюмый тон последней фразы Петра.
— А главное, то интересно, — продолжил Петр спустя некоторое время, — что звала она меня ласково, как в детстве. Обычно-то просто… Петька. Ну, Петр. Да и это можно объяснить — смертный, мол, час. А вот почему именно меня?! Нас ведь у нее пятеро. Трое, считая со мной, в нашем городе, двое на стороне. Никого из нас рядом с ней в тот день не оказалось, родственники за ней в последний час ухаживали — в деревне родни много. Пятеро! А звала меня…
Петр вопросительно поглядел на меня, ожидая, что будет сказано мною. Но теплоход ткнулся в пристань, в старые автопокрышки, повешенные для смягчения удара. Пассажиры загомонили, начали сходить. И за общим шумом и суматохой я постарался уйти от ответа.
Шестой ребенок
За деревней начинались луга с богатым разнотравьем. По лугу ходила девочка лет тринадцати и собирала цветы. А на пригорке, где лежала тень от большой липы, стоявшей рядом, и поэтому не пекло, сидел он, вытянув прижатые друг к другу ноги. Такая манера сидеть бывает у работающих физически усталых женщин.
Я подошел. Сзади меня была деревня, которой Радищев посвятил специальную главу в своем «Путешествии…». А впереди — луг, девочка и он. Он оглянулся на звук моих шагов, хотя я шел по траве и ступал вроде бы бесшумно. И я понял, что у него отличный слух. И еще я понял, когда он поглядел на меня, как бы сквозь меня, что он не видит.
Разговорились. И он не спеша рассказал мне историю своей жизни, вернее, послевоенной части своей жизни. Рассказал за каких-нибудь полчаса, спокойно и сухо, без всяких живописных подробностей, словно анкету заполнял. Видимо, он считал, — а так оно и было на самом деле, — что его обычная жизнь все же несет в себе черты необычного, чрезвычайного. И даже нечуткий слушатель, подумав над всем этим, перешагнет несчастье своей нечуткости и прочувствует все, всю ту боль и страдания, что скрываются за будничными на первый взгляд словами о судьбе этого человека и его семьи.
А рассказывать он начал потому, что я спросил, по какой причине на его лице следы слез. Я был бестактен в этом разговоре, я чувствовал это. Но что поделаешь, годы журналистских поездок «воспитали» ставшую привычной, даже болезненную необходимость говорить с людьми, выспрашивая их о жизни.
— Как же мне не плакать… — начал он. И я вдруг вспомнил сказку о лисе и зайце, выгнанном из избушки. Тот тоже отвечал этими словами: «Как же мне не плакать?» — Ведь там, — он махнул рукой за себя, — родная моя деревня. Я в ней родился, из нее уходил на войну, в нее вернулся после войны.
Жил я в деревне, жена работала в колхозе, а я в поселке, на предприятии. Жили мы хорошо. Прожили с женой семнадцать лет. И началась война.
Контузило меня на Волховском фронте, когда была попытка прорвать блокаду Ленинграда. Контузило, показалось, не сильно. Но в затылок. Отлежался в госпитале — и опять в строй. А почувствовал, что слабеет зрение, уже в Чехословакии, под конец войны. И двенадцатого мая сорок пятого года почти совсем не стал видеть. Лежал в госпиталях в Германии и в Польше. В Польше уже совсем ослеп. И капли не стали закапывать. Бесполезно.
Ну, вернулся я в родную деревню, в родной дом. Жена не шибко голосила, видно, навидалась горя всякого вокруг, помалкивала. Встретились мы с ней, поспали как муж с женой. А через неделю она заявила:
«Вот, говорит, тебе твоя шинель и пол. Спи там. А ко мне больше не приходи. Я с младшенькой спать буду. Ей на лавке плохо».
Он помолчал, сорвал травинку, помял в дрогнувших руках и сказал, не в силах даже сейчас унять давнее ожесточение:
— И проспал я на полу полтора года. На шинели спал, ей и укрывался. Вот так.
— Но почему же на полу? — удивился я.
— А где же? — тоже удивленно ответил он вопросом на вопрос. — Кровать у нас одна была. А ребятишки — кто с маткой, кто на полати, кто на лавке. А слепому как на полати? И топчана мне не сделать. Вот, значит, на полу.
Он говорил о себе как бы в третьем лице, словно рассказывал о чужой судьбе, но по его лицу и рукам видно было, как эта судьба его волновала.
— Ладно. Я бушевать. Я ж фронтовик, герой… Решил, что у нее есть или был там… полюбовник. Выпью самогонки у друзей — кричу. А она мне сказала:
«Ты не видишь ни черта. Если бы ты на меня сейчас поглядел, так и не заикался бы о полюбовниках. А ты вон какой еще мужик! Ты перенес, а я? Ты меня со сколькими оставил? С пятерыми. И все живы. А у других половина примерло. Вот и суди, что мне досталось.
А теперь еще ты, Алексей, шестым ребенком явился. Чуть не грудником. И спать мне с тобой — как раз седьмой будет. Так что мне, седьмого рожать и петлю для себя вязать? Я и так ее в войну вязала, когда ребятишки пухнуть начали. Да люди меня вытащили».
Я ей не верил. Всякая дрянь мнилась. Давай людей расспрашивать, причем баб, главное — таких, что ее не любили, злобились на нее. Знал я, кого спросить. Много худого наплели, но ни один человек даже намека на полюбовника не дал. Верна она мне была. А правильней сказать: никому не верна, а просто чиста.
Я взглянул на Алексея. Он и сейчас выглядел бодрым мужчиной, был побрит, причесан, аккуратно одет. Я прикинул, что ему около пятидесяти, и спросил его о годах.
— Шестьдесят девять, — сказал он. — А жена на два года моложе. Никто не дает, — удовлетворенно добавил он. — Но ты погоди… Я все о том-то. Я уж после понял. Долго мне пожить да подумать пришлось. И додумался, сам дошел. Она как женщина кончилась, у нее один закон остался, как в общем у матери. Чтобы через все, через не могу детей на ноги поставить. Хоть убиться. А тут я. Да еще с требованиями всякими…
Да-а. Это я уже после… А тогда! Ожесточилось сердце у нее, война его огрубила. А у меня? Да и не везло мне. В поселке архив сгорел. Мне, как колхознику, что ли, пенсию всего триста. А что в тот год триста рублей, когда буханка сотню стоила в наших местах?
Ну вот, валялся на полу, делать ничего не умею. То бушую, ее ожесточаю, себя травлю того больше. И понял, что я вроде тунеядца для нее. Не муж, не помощник. Одним словом, шестой ребенок. Грудник.
Понял, собрался и ушел. Навсегда ушел. На войну так не уходил из деревни, как в этот раз. Страшно было, ужас брал. А и руки на себя наложить не знаешь как. Слепой. И веревки не найти.
Ушел на заре. Добрые люди помогли до Ленинграда добраться. А там у меня родни… навалом. И двенадцать лет я по углам мыкался.
Он замолк на некоторое время, затем продолжил:
— И двенадцать лет я на ноги поднимался, снова человеком становился. Люди, все люди… На предприятие устроили, где слепые работают. Стал я оживать. Знаешь, какие первые послевоенные годы были? До других ли тут… А за меня хлопотали. Потом научили, написали, и назначили мне правильную пенсию. Потом комнату с печным отоплением получил. Через время с паровым. Теперь вот квартиру дали.