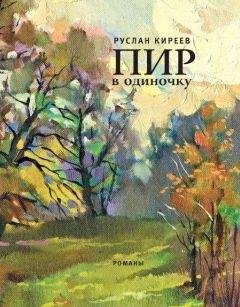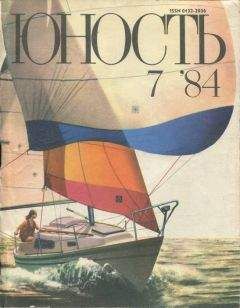Руслан Киреев - До свидания, Светополь!: Повести
— Ну что, любовничек? — тихо спросила она. — Поддержать? Или сам дойдёшь?
В завгаровской каморке мало что изменилось со времён её последнего хозяина Китаева. Те же обои с голубыми цветочками, та же загаженная мухами лампочка на голом шнуре, даже стол тот же, обшарпанный и громоздкий, покрытый толстым стеклом, под которым россыпь напоминающих бумажек. Но вот электрической плитки не было, а теперь есть — Инда включила её и поставила чайник. На тумбочке — банка с ромашками. Крупные, садовые… Мимолётно вспомнил Сомов вчерашние свои ромашки, которые собирал, ползая на четвереньках в росе… Белая занавеска на окне. Под вешалкой у этажерки с бумагами (и там порядок) лист ватмана — чтобы не тёрлась одежда о замусоленные обои. Все это неуловимо напоминало Сомову чистую крохотную квартирку в Больничном переулке. Ни телевизор, ни современный полированный сервант, который он увидел однажды на месте допотопного шкафа, не изгнали сиротского духа неуюта, пустоты и словно бы ожидания чего‑то. Сколько уж лет минуло после войны, осмотришься вокруг — все вроде расправилось, разгладилось, даже такие горемыки, как он, Сомов, ожили духом и брали радость, а одинокое жилище Инды по–прежнему хранило печать скудных и суровых послевоенных лет. «Нас с тобой война породнила, Павел. Ты семью и здоровье потерял, а я… Сколько миллионов на войне погибло? Двадцать? Где‑то среди этих миллионов и мой суженый затерялся. Имени — не знаю, ни с кем всерьёз‑то и не встречалась до войны, не успела, но ведь погиб, раз одна. Не хватило. Кому‑то хватило, а мне нет». Не жаловалась, не завидовала, не упрекала, что ходит тайком к ней. Как он — о своих изрешечённых осколками лёгких, так она — об этом. Кому‑то повезло, им — нет, но ведь кому‑то должно не повезти. На то и война.
— Вспоминаешь?
Он поднял голову. Так и клонилась — стоило забыться.
— Есть немного, — Он и сам не знал, что вдруг нахлынуло на него. — Квартиру твою.
— Хорошо, что вспоминаешь, — сказала Инда. Она стояла, заложив руки за спину, у стены, и спокойно смотрела на него. Он спросил:
— Как ты живёшь?
Улыбка поползла вбок, коронку обнажила.
— Богато…
Сомов не понял.
— В каком смысле?
— Да в самом прямом. Денег много, Паша.
— Это хорошо, — сказал он.
— Ещё бы. Не знаю, девать куда. Вот туристическую путёвку купила. Поплыву в сентябре.
— Куда поплывёшь?
— По Средиземному морю. Египет, Турция, ещё что-то… А тебе не хватает, как всегда?
Голову держать было трудно, и он, откинувшись, привалился затылком к стене.
— Денег хватает сейчас.
— Неужели? — Она и раньше подтрунивала над ним, и он всегда разрешал ей это.
— Сегодня не хватило, — вспомнил Сомов и озабоченно приподнял голову. — Трёшку я тут одолжил у одного. Да накатал на рубль. Новенький, Женькой зовут. На китайчонка смахивает.
— Парысаев, — сказала Инда.
— Кажется. Очень славный паренёк. Дай мне трёшку, раз такая богатая. Отдать нужно парню.
Инда чуть заметно кивнула. А взгляд — по нему, проницательно, медленно.
— Что? — спросил Сомов. — Не узнается?
— Да нет, — сказала она и вздохнула. — Узнается.
— Скоро и я поплыву, — сказал Сомов. — По Средиземному морю.
Она поняла, но хоть бы словечко утешения! Умница! А ведь нелегко ей видеть его таким, он знал это и пожалел, что пошутил с ней о предстоящем своём плавании. С кем угодно, только не с Индой…
Опустив глаза, потрогала ладонью чайник.
— Из больницы сбежал?
Сомов грустно улыбнулся. Она все ещё считает его способным на это!
— Брат умер. Митя.
Инда внимательно смотрела на него, а он, как бы со стороны услышав эти свои слова, ужаснулся им. Не тому, что Митя умер, — другому: как спокойно и уже привычно говорит об этом. Привычно. А ведь Митя был, его можно было потрогать пальцем, он улыбался, под плохо выбритой кожей ходил кадык… Было все это или не было? В этом‑то и таился весь ужас смерти. Не то страшно, что человек исчезает вдруг, а то, что его вроде и не было никогда.
Инда сказала что‑то. Он посмотрел на неё и в то же мгновение почувствовал на лбу испарину.
— Тебе плохо?
Сомов достал платок.
— Не плохо. О Мите вспомнил, и как‑то так… Себя вроде жалко стало.
Никому другому не признался бы в этом.
— Себя нельзя жалеть, — сказала Инда. — Как только начинаешь жалеть себя, опостылевает все. Свет белый ненавидишь.
— Вот–вот, — подхватил Сомов. — Я тоже так сыну говорю. Он ополчился у меня на все. Все злые, говорит, и ты тоже.
— Возможно, он прав?
Никогда она не была с ним до конца серьёзной и ему не разрешала. «Все это не по–настоящему, милый. Игра, блажь».
— Откуда у него такая озлобленность? — сказал Сомов. — За что ему ненавидеть жизнь? Вот ведь как: я её люблю, а он ненавидит. За что?
— А тебе за что её любить?
Такого вопроса Сомов никогда не задавал себе.
— Черт его знает… Жили все же. Но не во мне дело, Инда. Он почему так?
— Себя жалеет?
— Не жалеет, — сказал Сомов. — Себя тоже ненавидит.
Её взгляд ушел от него, замкнулся. Он не мешал. В ней многое что было непонятно ему, в Инде, и он честно признавал, что её ум быстрее и затейливее его. Порой он не мог проследить за ходом её мысли, она же всегда понимала его с полуслова.
Инда сказала:
— Пусть ненавидит — так легче. Несправедливости меньше.
Сомов нахмурился.
— Куда же она девается?
— Никуда. Просто замечать перестаёшь.
— Но если есть она? Как же не замечать её, если есть она! Так человек жить не сможет.
— Сможет, — сказала Инда. — Человек всегда сможет жить.
В каморку заглянул белобрысый механик. Войти не решался, но и дверь не закрывал.
— Ну что? — устало спросила Инда.
Паренёк вошёл, оставив дверь за собой открытой, и на Сомова не глядел. Не вижу, не слышу… Сомов тихо улыбался его целомудренной официальности.
— Я насчёт семнадцать — одиннадцать, Индустрия Федоровна. Карбюратор сделали, там пустяк был, а выезжать не хочет. Говорит…
— Скажи ему… — не повышая голоса, перебила завгар, и механик с готовностью замолк, — Там кто, Шишков? Скажи ему, если не хочет работать на машине, мы его на яму переведём.
— Вы лучше сами скажите ему это, Индустрия Федоровна.
— А ты чего, боишься?
Механик зарделся.
— Да не боюсь, но ведь вы знаете Шишкова.
— Шишков не даст себя в обиду, — вставил Сомов.
Паренёк поблагодарил его взглядом, а Инда — мимо ушей.
— Скажи, пусть зайдёт ко мне.
Мигом за дверью скрылся механик, уважительно–тихо прикрыв её за собой.
— Строгий ты начальник, — сказал Сомов.
Инда кивнула, соглашаясь.
— Строгий. — Но о другом, видел, были её мысли. Да и вгляд снова в себя ушел. — Хоть начальник из меня получился.
Сомов смотрел на неё, и что‑то зябко смещалось у него в груди. Завозился на стуле, встал и, опираясь о палку, пошёл к ней. Почти вплотную приблизился, а она никак не могла оторвать взгляд от того, что видели её глаза.
— Инда…
Покалеченной рукой коснулся её лица. Она прижалась к ладони холодной щекой, но лишь на мгновение, а взгляд там остался.
— Зачем встал? Растянешься тут, утешая меня.
— Не растянусь! — браво сказал Сомов.
Она повернула голову и близко смотрела на него.
— Хороший ты мужик, Сомов. Жаль, коли умрешь.
— Не умру! Вчера плясал даже. На поминках у Мити.
Инда улыбнулась. Потом подвинула стул и усадила его.
— Знаешь, о чем я думаю, Паша. О чем жалею… Ни о чем не жалею, а об этом жалею.
Он немного запыхался и теперь незаметно, чтобы не помешать Инде, успокаивал дыхание. Она молчала, и он не торопил её. На плитке протяжно засопел чайник.
— Сколько Кучеруку лет? — Не спрашивала — думала вслух.
— Какому Кучеруку?
— Вот. — На то место кивнула, где стоял минуту назад молодой механик. — Двадцать два… Ну, двадцать один. Только техникум кончил. — Сомов не понимал, к чему это вдруг она, но тем внимательней, насторожённей слушал. — Как, интересно, его мать зовут? Электрификация? Тракторина? Тогда ведь частенько такие имена давали — не меня одну припечатали. Новое поколение, новые имена. Полагали: счастливое будет, коли новое. Завидовали. И было б, может, кабы не война.
Сомов позволил себе пошевелиться, удобнее сел.
— Об этом нельзя думать, — сказал он строго. — Я никогда не думаю, что было бы, если б не война.
Как умная Инда не понимает таких очевидных вещей!
— Я не об этом, Паша. Это я так, к слову — Кучерук зашёл. На меня находит порой, когда таких ребят вижу.
А тут ещё ты. — Глаза её заволокло, и были они далекодалеко. Что‑то очень сокровенное, женское приготовился услышать Сомов. — Жалею я, Паша, что поздно встретила тебя. Детей уже не могла иметь.
В растерянности задвигал Сомов руками.