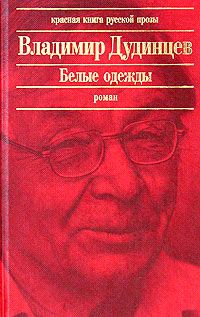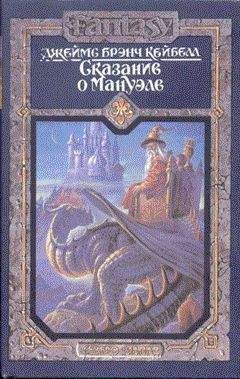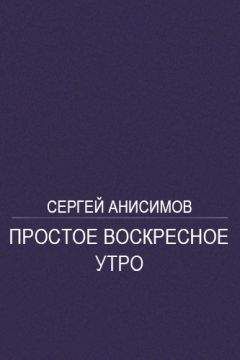Владимир Дудинцев - Белые одежды
— Ну, как? — шепнул дядик Борик, подаваясь вперед.
— Нет вроде…
— Я его и не вытаскивал бы…
— Ш-ш-ш! Вроде как есть! Есть. Надо раздеть, — распорядился Федор Иванович. И тут увидел на вздутой бледной руке буквы, четко прорисованные химическим карандашом: «Старик Жуков виноват».
Дядик Борик тоже увидел. Округлил глаза.
— Кошмар… И подыхает, а все еще доносит.
— Вцепится теперь он в Жукова. Борис Николаевич, вы разденьте его, а я побегу, вызову «скорую». И ацетон принесу — смыть буквы.
Минут через двадцать Федор Иванович вернулся. Краснов лежал без ботинок и без пиджака. Бледно-голубые глаза его уже вернулись из-подо лба в нормальное положение и мутно смотрели в небо, полуприкрытые веками. Он изредка неглубоко вздыхал. Показав дядику Борику флакон с прозрачной жидкостью, Федор Иванович плеснул на платок и принялся тереть тяжелую руку альпиниста.
— Чем это пахнет? — спросил Борис Николаевич. — Похоже, не ацетон…
— Ксилол. У лаборанток нашел. На дерьмо дефицитную вещь приходится тратить. Вроде хорошо смывает. Надо завтра в больнице предупредить этого дуралея. Чтоб старика Жукова не трогал. Вы теперь смотрите за ним, а я пойду. «Скорую» встречать…
В понедельник дядик Борик зашел к нему в учхоз — на делянку, где завлабораторией с раскрытым журналом в руке стоял среди картофельных кустов. Федор Иванович внимательно посмотрел на него.
— Из больницы?
— Сейчас оттуда. Лежит с капельницей. Речь у него нарушилась. Врач обещает, что месяца три полежит. С трудом мямлит. Но разобрать можно.
— Состоялся разговор?
— Состоялся. Я спрашиваю: как в канаве очутился? «Жердина под ногой повернулась». Сама? — спрашиваю. Он смотрит. Все понимает. Сам не шелохнется. «А кто же еще?» — говорит. Я руку на руку ему положил. И говорю: так и отвечай всем. И пальцем крестик на руке у него… почесал.
— Он понял?
— Все он понимает, Учитель. Он и глазами показал. Мол, все будет в порядке.
А вечером, когда на улице посинело и полнеба захватило остывающее зарево странного лукового оттенка, в дверь к Федору Ивановичу постучали. Он как раз сел пить чай и собирался, не зажигая света, посидеть и обдумать все происходящее. Загремев стулом, он открыл дверь — была не заперта. Во тьме коридора кто-то стоял. Потом надвинулся невысокий плотный мужик, бледный, с черными, грубо откинутыми на сторону масляными лохмами и черными поникшими усами. Федор Иванович узнал Жукова-отца и шагнул назад, как боксер, чтоб была свобода для боя.
— Ты чего? — строго прохрипел Александр Александрович.
— Боюсь, по морде будешь бить.
— Не бойся. Считай, пронесло, — он вошел и со стуком поставил на стол поллитровку. — Значит, живешь, Дежкин, здесь… Ну, давай подержимся, — он протянул ручищу. Задержал руку Федора Ивановича. — Обиделся тогда?
— Почему? Я же видел, что не по адресу.
— Оши-ибка… Ошибка вышла. Мы ее, Дежкин, исправим.
Они сели к столу.
— Это что у тебя тут, колбаса нарезанная? Давай нальем. Разговор лучше пойдет.
Он налил в две чашки. Федор Иванович послушно взял свою. Выпили по глотку.
— У тебя никто тут не спит? — Жуков внимательно оглядел темную комнату. — Знаешь, почему я к тебе пришел? Ведь это я его…
— А я знаю…
— И я знаю, что знаешь, Федор Иваныч. И что ты руку ему отмывал, знаю. От буков отмывал. Спасибо тебе. Это я его… Как проведал, что за черникой повадился, так и стукнуло. И стал за ним ходить. А он же ничего не слышит. Знаешь, как он ходит по лесу? Как первобытный человек, такая картина есть. Весь вперед согнется, брови опустит, руки свесит и все думает что-то. Вот я вчера совсем вплотную подошел… А он как раз на жердину ногу ставит. Чтоб переходить. Как он на середку вышел, я жердину и шевельнул. И качаю. А он оглянуться боится, думает, голова кругом пошла от болиголова. Она так бывает. Балансирует, корзину бросил, крыльями машет… А потом и зашумел вниз. А я жердину на место — и назад. Отошел — слышу, он орет. Потом поплыл. А там же крыша над канавой, болиголов сплошной. Темнота… Он все хлюпается, хлюпается. И покрикивает иногда. Вот минут через пяток я и подхожу. Разгреб кусты, а он там. Мне в глаза смотрит. «Ты как сюда?» — спрашиваю. Он: «Слушай, спаси. Найди жердиночку какую, протяни. Я знаю, плохо я тебе сделал. Прости…» — «А что же это ты такое натворил? Почему так думаешь, что сделал мне плохо?» — «Я поступил скверно, — он говорит. — Ты же Саши Жукова отец? Не знаю, почему со мной так…» — И заревел как женщина. Я ему говорю: «Да распротуды-т-твою не мать, это ты потому сейчас ревешь, потому каешься здесь, что знаешь, собака, что мне все известно насквозь про твою подлость. Если б ты точно знал, что я не знаю ни фига, и все мне рассказал и заплакал, — тут я тебе жердину, может, и подал бы. Вот она лежит. А так не подам». Давай еще глотнем, Дежкин. Самую малость. Поддержи уж компанию…
Они выпили еще. Сидели в полутьме, сопя, жуя колбасу. А за окном стало еще синее, закат догорал, чуть светился сквозь полосы золы.
— Он руки ко мне тянет, машет, боится, что уйду. Я ему говорю: «Зверь ты, волк. У тебя уши зубчатые, бабушка твоя гуляла с сатаной. Убийца, Троллейбуса нашего загубил. Ведь знал же, знал, что у него язва. Он же не вернется. Отвечай, знал, что язва?» — «Знал», — говорит. «Видел, как глотает из бутылочки?» — «Как же, видел». — «И знал же, что он сделал открытие?» — «Ну, какое открытие… Но знал, конечно, знал». — «А зачем же ты тогда, если не знал, к нему на огород лазил? Дыру-то тебе там, на огороде, поставили? Вон, метка». — «Знал, все знал, дурак был». — Он еще больше заревел и руки тянет. «Откуда ты свалился к нам, непонятный такой? Ты же понимаешь, что ты наделал? Или ты, как собачонка, — на кого натравят, туда и брешешь? Ведь если от них, кого ты посадил, не остался какой и не затаился, если этот человек не спасет все дело, вы все завтра будете сидеть без картошки! Жрать же дуракам нечего будет, ты это хоть понимаешь? А еще Ким назвался. Это же значит Коммунистический Интернационал Молодежи! Зачем имя переменил? Отвечай! Думаешь, про сундучок не знаю? Зачем?» — «Мода, — говорит, — была». Чуешь, Федя? «Мода бывает галантерейная, — это я ему. — Или на прически…» — «А это, — говорит, — политическая мода». — «Да ты и в Прохорах мог бы политику свою делать! Нет, Краснов, это ты сделал для торжества над простачками, над теми, кто недотумкал Прохора-то переменить, на отца родного плюнуть. Вырваться вперед хотел. А как стал Кимом — держи теперь ноздрю воронкой. Ругают вейсманистов — и ты их в шею. Прохор мог бы еще поберечься, уйти от такой подлости, а Ким — ого-го! Ким должен ругать. И бить! А соблазну сколько! Бьешь его, сбил, а после него клады, клады же остаются! Работал ведь человек, для народа, что-то находил. Надо же взять!»
Они долго молчали, сидели, опустив головы.
— Надо же, отрекся от отца! — заговорил Жуков опять. — Что же ты такое, если не понимаешь, какая это вещь — кровная связь отца с сыном! Тебе это говорит отец, Сашкин отец, мальчишки моего единственного… Который не то что как ты. Которому руку руби, а батяню своего не продаст… Сы-но-ок! Сыно-хо-хо-хочек!..
Глубоко втянув нижнюю губу и сильно зажмурившись, Александр Александрович вдруг заперхал, зашмыгал, напыжился, и тоненькой ниточкой вытянулся из него жалостный плач и потянулся все выше, не переставая. Как будто сердце вытекало из старика через тончайший капилляр. Федор Иванович окаменел от ужаса. Он никогда не слышал такого горького плача, не видел такого горя. Оборвав тонкую нить плача, старик тяжело заохал, падая каждый раз грудью на стол. Он убивался по своему сыну. Убивался, а смерть не приходила.
— Феденька! — закричал он, тряся головой, и бросился Федору Ивановичу на грудь.
Потом он затих, и оба с жадностью выпили по полчашки.
— Если бог есть… Если есть, — я ему говорю… — старик всхлипывал у Федора Ивановича на груди. — Если бог есть, он должен тебя… Должен покарать. И пусть он тебя покарает моей рукой. Если бога нет — человеческая совесть пусть поставит точку твоей подлости. Закон еще не находит управу для таких, как ты. И не скоро еще найдет. Все мелкоту подбирает. Ничего, совесть заполнит эту прореху. Так что знай, если выберешься из этой ямы, все равно я тебя достигну. А если ты меня опередишь, другие достигнут. На тебя целая очередь стоит. Я тебя сейчас мог бы шарахнуть… Колом по башке. И кол хороший лежит поблизости. Я тебя оставляю во власть твоей судьбы. Если вытащит тебя кто — целуй руки тому. Но знай, Краснов. Значит, судьба тебя для другого наказания бережет. Пострашнее. Чтоб ты десять раз сдох и воскрес. А потом уже она тебя уберет. Когда сам ее начнешь об этом просить.
Краснов лежал в больнице, в отдельной палате, и из капельницы, установленной около койки на никелированном штативе, медленно текло по прозрачной трубке в его вену чудодейственное, недоступное простым людям заграничное лекарство, присланное академиком Рядно. Днем и ночью дежурили около больного попеременно две пожилые сиделки, обе с фельдшерской подготовкой, обе были приглашены за хорошие деньги некоей дамой, пожелавшей остаться в тени. Тем не менее, ему не суждено уже было вернуться в институт. Прошел слух, что академик Рядно дважды звонил в больницу и обстоятельно, каждый раз по полчаса беседовал с главным врачом о перспективах выздоровления Краснова. Деловой человек Кассиан Дамианович. Главный врач заверил академика, дал гарантию, что Краснов встанет на ноги и болезнь не отразится на его талантах. После этого вскоре стало известно, что, как только больной станет более транспортабельным, его переведут в московскую больницу под надзор выдающихся специалистов. Он еще не начал ходить, и логопед еще учил его отчетливо произносить слова «тридцать три» и «артиллерийская перестрелка», а в надлежащих местах уже лежали толково написанные предложения о предоставлении ему должности в Москве, и на них уже были положены резолюции, скрепленные красивыми размашистыми подписями начальников. Уже был решен вопрос и о его преемнике в институте. И не только там. Когда Федор Иванович в середине первой недели июля наведался во двор Стригалева — посмотреть, как развивается картошка, перенесшая заморозок, и когда он приблизился на дальнем конце к зарослям ежевики, какой-то крупный тяжеловесный зверь вскочил в кустах и побежал, ломая ветки, рухнул в бочажок, соединенный с ручьем, и как будто даже чертыхнулся при этом. Похлюпал дальше по воде и затих. Федор Иванович не стал расследовать это обстоятельство, все было в порядке вещей. Значительно важнее было то, что огород ярко зеленел. На месте скошенных развились новые побеги. И новый сорт был опять отлично замаскирован. Осмотрев для порядка георгины на альпийской горке, двойник их хозяина перелез через забор и, шагая к себе, несколько раз повторил: «Три и семь».