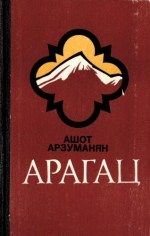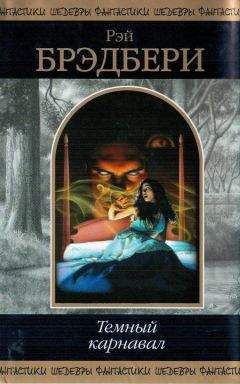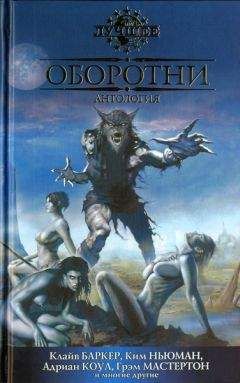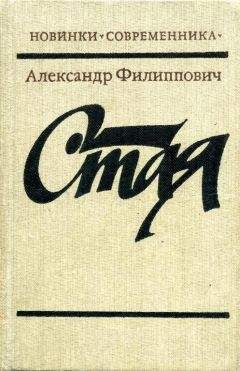Ихил Шрайбман - Далее...
— Девушку мы пока назовем Соней. Красивая, глаз не оторвешь. Медицинская сестра. Война, Киев оккупирован, Соня эвакуировалась с родителями в Ташкент, работает в военном госпитале. Госпиталь не очень большой, но работа — трудней не придумаешь. Тяжелораненые, многочасовые операции, фронтовики без ног, без рук, без глаз, их оперируют, лечат, а потом еще сколько усилий, чтобы они снова почувствовали себя людьми, вернулись к жизни. Однажды привезли парня, тяжело раненного в оба глаза. Назовем пока этого парня Виктором. Ему сделали две операции, два раза снимали бандажи — и все попусту. Виктор навсегда остался слепым. После повторной операции шесть месяцев Виктора держали в госпитале. Но в одно прекрасное утро именно на Соню пал жребий: его, такого вот, навсегда слепого, отвезти домой, в деревню, где он жил до войны. Поезда ходили в то время еще медленнее, чем сейчас. Соня с Виктором провели четыре дня в дороге. В первый день Виктор был в сносном расположении духа, иногда даже словечко произнесет. На второй день замолчал. На третий — и молчит, и еду не принимает. На четвертый день, перед самым прибытием на место, он сказал Соне:
— Все равно я жить не буду!..
— Что это значит? Как это понимать? — Соню аж затрясло.
— Как говорю, так и надо понимать. Не хочу оставаться вечной обузой для родителей, изо дня в день торчать бельмом в глазу. А кроме них — кому еще я нужен?
— Мне. Мне ты нужен!.. — Соня припала к нему головой и разрыдалась.
Родители Сони в Ташкенте чуть с ума не сошли. Летели телеграммы, звонили телефоны — урезонивали и по-хорошему и по-плохому. Когда отец Сони через десять дней приехал в ту деревню, чтобы убедиться, что да как, Соня и Виктор жили уже вместе в отдельном домике, уже расписались в сельсовете, были мужем и женой. Родители Сони решили, поразмыслив, что все это — романтические бредни их дочери, каприз ее восемнадцати лет — пусть даже безумный каприз, — но это пройдет. Война тем временем продолжалась, свершались крупные события. Киев был освобожден. Немного погодя старшие вернулись из Ташкента домой. С Соней поначалу даже не переписывались; потом начали понемногу отвечать на ее письма, сами засыпать ее письмами; в конце концов послали Соне и Виктору вызов в Киев — чтобы хоть жить рядом с ними. У Сони и Виктора в ту пору уже и ребенок был.
Что я тебе скажу, дружище: «любовь» — не то слово. Для того, что происходит между этой парой, пока нет названия. Она для него бог. Он для нее — все на свете. Она в лепешку расшиблась, бегала, просила, требовала, чтобы его, как он есть, со слепыми глазами, приняли в Киевский университет. Сама она успевала и работать в госпитале, и ходить с ним на лекции, переписывать конспекты, читать ему их дома… Сидела и с ним «учила уроки», как с ребенком — учеником первого класса. Не знаю, писал ли он и прежде стихи. Если и писал, то это наверняка было несерьезно — юношеские пробы. И вдруг ни с того ни с сего в один прекрасный день — но ты, конечно, сам понимаешь, что не совсем «вдруг» — он начал писать. Вначале — в голове, в одиночестве, для себя. Потом, стоило ей только выслушать несколько первых его стихотворений, они уже писали вместе. Это означает, что он сидит или лежит на кушетке и диктует, а она записывает. Если он велит ей строчку вычеркнуть, она вычеркивает; изменить слово — она изменяет; если он заставляет ее стихотворение порвать, она обещает порвать — и прячет. Короче говоря, он теперь — поэт. Мой киевский знакомый. Успел издать несколько книжек стихов. Часто выступает на вечерах поэзии. Она его выводит на сцену, и он наизусть читает. Сначала совсем тихо, еле слышно, потом все громче, сильнее, голос накаляется, звенит. Очень трогательные стихи, вовсе не плохие, его стало интересно слушать. Поэзия сделалась смыслом его жизни. Поэзия и Соня. Поэзия благодаря Соне. Здесь можно с полным основанием сказать ей спасибо. Спасибо ей в самом большом смысле слова и спасибо в самом простом смысле…
История, которую рассказала мне Рива Балясная, так взволновала ее саму, что, замолчав, она не могла унять возбуждения, щеки у нее пылали. Я подумал, что этим рассказом она подняла свое настроение, отвлеклась от переживаний последнего времени. Мы поднялись со скамейки, и Рива бросила:
— Настоящих имен Сони и Виктора я тебе не скажу. Если сподобишься снова породниться с ними, сам узнаешь…
— Разве в этом дело? — почему-то виновато ответил я.
4Как-то я опять поехал к морю, в Дом писателей.
И там, на вечере, где поэты читали свои стихи, я увидел поднимающегося на эстраду поэта, имя которого только что объявили, вместе с ним поднималась женщина. Она не вела его под руку, не поддерживала. Просто шла рядом с ним, и он чувствовал ее шаги рядом. По нескольким ступенькам, ведущим на сцену, он взошел уверенно, легко, не нашаривая их ногами; казалось, знал, куда идти.
Женщина оставила его на сцене, и поэт начал читать. Слепые глаза открыты. Никто в зале не заподозрил бы что на сцене стоит незрячий. Поэт сам рассказал об этом в стихах.
Он читал и военные стихи, и стихи о любви. Он читал сперва тихо, еле слышно; с каждым стихотворением голос звучал сильнее и увереннее, так что стены в зале звенели. Все было так, как Рива изобразила мне это чтение. И стихи сами такие же — и тихие, и звонкие. Патетически-звонкие не менее трогали, чем лирически-приглушенные. Стихи нельзя пересказать. Попробую только смысл этих пронзительных стихов изложить в нескольких словах: я глаза мои отдал в бою против зверства бесчеловечности, и я победил — я вижу теперь воочью, как велик и возвышен ты, человек…
На том вечере я познакомился с Соней и Виктором. Оказалось, и они обо мне знали — Рива им тоже внушала, что у них есть родственники в Кишиневе.
Следующие две недели в Доме писателей мы провели вместе. Я присматривался к Соне и Виктору с таким же любопытством и восхищением, как в те, другие две недели, к Шац-Анину и его жене. Рижская пара и киевская пара стали жить во мне, словно одно поразительное явление. Нет нужды повторять здесь о чете из Киева все, что я уже рассказывал о рижских супругах. Хотя люди были совсем разные.
Прижавшись к жене, защищенный ею, ступая с нею в ногу — даже у шагов их был общий отзвук, — Шац-Анин рядом с Фаней Самойловной не выглядел слепым.
Идя рядом с Соней, свободно, не держась за нее, только чувствуя ее присутствие, Виктор казался зрячим.
Я смотрел, как они купаются в море. Всегда врозь. Когда он плавал, она в воду не входила. Сидела у берега, глаз с него не спуская, лишь иногда крикнет ему что-то, позовет — руку ему протягивала, только когда он выходил из воды. Похоже, она не хочет, размышлял я, чтобы он даже перед лицом всемогущего моря чувствовал себя немощным.
Старики — рижская пара — представлялись мне монументальными, как монументален фасад старого храма, пережившего поколения, со скульптурными фигурами, с крылатыми ангелочками в нишах, со львами у ступеней, со священной тишиной в затаившихся тенях.
Младших — киевскую пару — я бы мог уподобить новому зданию из стекла и алюминия. С простотой и четкостью линий, с прозрачностью, свободно пропускающей во все углы солнце и воздух.
Настоящих имен Сони и Виктора я не называю читателям. Так же, как Рива Балясная мне их не называла. (Но я знаю, что у поэта в Киеве известное имя…)
Оба сюжета витали надо мной, как кружатся ласточки, что гнездятся вместе, одна подле другой, под одной стрехой.
Я ставлю пока двум замечательным женщинам — Фане Самойловне и Соне — только мраморную доску. На доске надпись: здесь, на этом месте, будет воздвигнут памятник.
Пер. Е. Аксельрод.
ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Сидит напротив меня девушка и читает мне стихи. Стихи о любви. Звезды висят низко, прямо над головой; он где-то высоко в небесах; она бежит по полю с трепещущим в руке платком; она несет ему навстречу самое чистое — первый поцелуй.
Признаюсь: не все, что она читает, я слышу. Каждый раз она поднимает на меня глаза от своей тетрадки, и каждый раз я теряю нить. Чувствую, что самые прекрасные строки побледнели бы перед этими двумя ямочками, появляющимися, когда она читает, на ее щеках.
Смотрю на ее загорелые руки, на ее летнюю кофточку, на ее черные с блеском волосы, разметавшиеся по плечам, и думаю, что об этих стихах, какими бы беспомощными и школьными они ни были, ни одного худого слова я не могу произнести.
— Скажите, прошу вас, — спросил я, когда она на миг умолкала, — сколько вам лет?
— Ну двадцать один! — скороговоркой ответила она, как бы обиженно, надув губы.
— Понимаете… — начинаю я как-то мямлить. — Стихи… вообще… искусство… должно быть правдивое… земное… Попробовали бы вы, скажем, просто показывать в стихотворении себя… Просто себя… Понимаете?..
— Нет. Не понимаю!