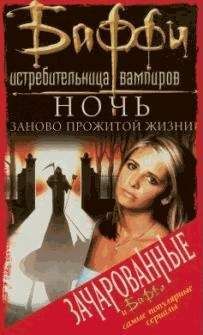Николай Атаров - Избранное
Абрикосов не спал. Он ждал, когда корреспондент откроет глаза.
— Что ж на «Ракету» не сели? Или не присоветовали?
— Я с ней пойду в обратный, — закуривая, ответил я. — Там сейчас начальства — выше головы.
Не хотелось вводить посторонних в подробности, и я с ходу придумал благовидный предлог.
Механик лениво хмыкнул. Я взглянул на верхнюю койку — больной блаженствовал под простыней, натянув ее по самый подбородок. Видна была только крупная носатая голова в форменной фуражке с эмблемой на околыше. От нечего делать он охорашивался после ночного лечения. Оттого и фуражка на голове. И обломок зеркальца зажат в ладони.
Захотелось его подразнить.
— Техническая революция на реке, а вы болеете.
— О Гарном будете писать? — осведомился механик.
Я промолчал. В каюте потемнело от придвинувшихся мокрых бревен причала, в открытые иллюминаторы донеслись знакомые пристанские шумы и голоса.
— Все-таки интересно знать, что вы напишете о Борьке, — с игривой интонацией заговорил механик.
— Напишу то, что расскажете. Любит он технику?
— Технику любит, — всерьез подтвердил механик.
— Товарищ неплохой?
— Завинтился наш Гарный со своим назначением, — уклончиво ответил Абрикосов. — Вещички растерял. Вон у меня его книжица заночевала.
— Книжку забыл?
Меня забавляло, что механик лежит под простыней, как какой-нибудь уцененный римлянин времен упадка: фигура нелепая, голова в фуражке с «крабами», поза уморительная, а туда же, еще осуждает Гарного.
— Кабы одну книжку, — пробормотал Абрикосов.
— А что еще? Вчерашний день?
— Еще спиннинг у Воеводина, ключ от каюты забыл в кармане, — дополнил счет Абрикосов.
Он поправил фуражку, плотнее натянув козырек на глаза. Видно было, что для механика главным событием было не появление крылатых конструкций на реке, а уход Борьки Гарного из экипажа.
— С чего это обидели капитана? — Я спросил об этом просто, чтобы подразнить.
— Кто сказал — обидели? Никто никого не обижал.
— Гарный у вас помощничал?
— Шесть лет.
— И он моложе Воеводина? Почему обошли?
В молчании механика сказалась мужская солидарность. Наконец он выдавил хрипловато:
— Есть причина.
Он, видно, не хотел уточнять, а может, мой иронический тон не располагал к откровенности.
Теплоход бурливо отваливал: иллюминаторы впустили в каюту солнце. Все заиграло: граненый стакан, зеркальные дверцы узких шкафов, увешанных бушлатами. Не то от дознания и следствия, которые я учинил, не то от солнечных зайцев ко мне вернулось доброе настроение. Вообще-то я люблю жизнь, очень жаден до людей, и только чтобы никто этого не заметил, дразню их, грублю им. Я все хочу знать, всюду побывать, все увидеть. Это, конечно, от молодости.
— Пойду погляжу на реку.
— А я сосну чуток, — отозвался механик.
Я вышел на пустынную палубу и глянул по сторонам. Небо, горы и вода. Воды было особенно много — густая и плотная, глинисто-зеленая, она была некрасива. Я подумал: как в день сотворения мира. Впрочем, после ночного дождя не хватало утреннего затишья, покоя, будто в природе не кончились подготовительные работы: тени от дыма на воде, и солнце сквозь бегущие облака, и ветряная зыбь.
В прошлом году я побывал в этих краях с выездной редакцией, и первые три-четыре часа вверх по течению реки были мне знакомы. Но теплоход уже оставил позади мельничный комбинат, старинный скит (в советские времена тубсанаторий) и село Буреломное, где я исписал не один блокнот на взрывных участках строительства автодороги. Теперь пошли новые для меня места. Здесь были горы, только горы. Зеленый, в желтых прядях лес. И лиловатый камень. Что-то и впрямь сродни космосу: необитаемость, целина неба, гор и воды.
На палубе — тоже ни души. Я простоял не меньше часа, дождался, когда миновали избенку бакенщика с огородом и волнистой полоской раскорчеванного берега. Не было видно даже тропки, которая вела бы в лес. Бедное хозяйство лепилось к реке. Предзимняя одинокость.
3— Ну, как почивали?
— Спасибо… Вашими заботами.
Из служебного отсека поднималась знакомая женщина, круглолицая, светловолосая, почти безбровая и не подозревающая о своей миловидности, иначе зачем бы куталась днем и ночью в пуховый платок? Что-то было привлекательно беспорядочное в ее внешности, и я подумал: вот так и бывает — заберешься в заводскую гостиницу или осенней ночью на захолустный пароходишко и не подозреваешь, что тут давным-давно обитает, дожидается, чтобы ты залюбовался ею, очень милая круглолицая дева. Она, конечно, своя, из экипажа. Может быть, буфетчица?
— Скажите, это правда, будто Гарный унес ключ от каюты? — строго спросил я.
— Мой Вася всегда правду говорит.
Ну влип: она капитанша!
— А все-таки ваш Вася того… бальным танцам не обучался.
— Вы про вчерашнее? В нервах он, оттого и грубит. Нехорошо, конечно.
Она повернулась ко мне, защищаясь от ветра, и вблизи не показалась такой уж молодой. Но была какая-то прелесть в ее румяных круглых щеках и безбровости, и веяло ленцой от всех ее округлых движений.
— А я подумал, что вы капитанская дочка.
— Я и есть капитанская дочка, — она засмеялась, — только не Васина. Вася в помощниках ходил, когда мы поженились. Отец меня выдал за него, как раньше поповну за дьякона выдавали.
Она говорила о себе простодушно и открыто. Мне легко с такими, захотелось болтать, расспрашивать.
— И всегда вы с мужем плаваете?
— Что ж дома-то сидеть.
— И не скучно?
— Любопытный вы народ — корреспонденты! За Васей присматривать надо. Мой Вася…
И она стала рассказывать, какой он отличный судоводитель, может и за механика оставаться по совмещению, а другие не могут.
— Другие не могут, — поддразнил я, — а на «Ракету» все-таки Гарного назначили.
— А я и довольна, что Вася не ушел на крылатого. Тут завидовать нечему. — Она спохватилась: — Только не думайте, что я вмешиваюсь в Васины дела.
Она отошла поправить скамью, отъехавшую от стены. Ветер оголил ее круглые колени — что-то было в ее фигуре по-домашнему располагающее к себе. А когда вернулась и стала рядом со мной, выпутывая приставшие к пуховому платку пряди соломенных волос, ее румяное лицо опять удивило меня нежностью, милой открытостью.
— Ветер, — сказал я. — Озябнете.
— А я не зябну, — возразила она и рассмеялась. — Мой Вася говорит: ты, Наталья Ивановна, как гагара.
Она так лениво куталась в платок, облегавший плечи и белые локотки, что мне хотелось дождаться, когда она разомкнет полные руки и сладко потянется, как бы со сна.
— Ваш муж в бутылку полез. Это бывает.
— Вы так считаете? — Голос ее сломался от обиды.
— Так бывает. С этими перемещениями.
— Ничего вы не понимаете! Ему жаль, что Фимочку увели.
— Фимочку?
— Да, девочку.
Я знал, что теперь, когда сорвалось с языка, ей придется досказывать. Но она молчала. И я заметил болезненную бледность, вдруг разлившуюся по ее лицу.
— Тошно мне, муторно. А то бы я вам все рассказала.
— Нездоровится?
— Да, что-то нехорошо. Простите меня.
— На волне укачались?
Она с трудом улыбнулась глупому предположению.
— Фимочка… Вам уж бог знает что представилось, — сказала она, со вздохом превозмогая дурноту. — Это дочка Гарного, вы ее видели ночью.
Она держалась за поручни, бледная, вдруг ослабевшая и жалкая. Слабо улыбнулась, тронула на груди нитку голубых бус. А я подумал угрюмо: ну чего стоишь на ветру, лясы точишь с незнакомым мужчиной? Делать, что ли, нечего? Подтянуться бы тебе, капитанская дочка. Я и сам не знал, с чего я озлился, не оттого же, что все тут болтают не то, что нужно. Только что я усвоил тот ценный факт, что Гарный вещички растерял второпях. Отлично. Теперь выясняется, что Воеводин привязался к его дочке, а ее увели с теплохода.
— Хотите — поищу врача? — предложил я.
— Пожалуйста. Только не говорите Василию Фаддеичу.
А ведь врач был на теплоходе — Соня! Ну, положим, без пяти минут врач: медичка с пятого курса. Она из военной семьи. Отца перевели по службе в эти края. Соня летом тоже перекантовалась в местный медицинский. Как я забыл о ней…
В пассажирском салоне под тихое бормотанье репродуктора женщины причесывались лениво, как моются кошки. Шум разговоров, щелканье орешков, треск яичной скорлупы, разбиваемой о железные уголки чемоданов. Пили чай на всех скамьях. От густого пара запотевали стекла окон. И пока я пробирался к Соне, я видел первозданные лиловатые скалы — они равномерно плыли с обеих сторон в запотевших стеклах.
Соня читала книжку.
— Выйдем на палубу.
— Здравствуйте, — ответила Соня и самим звуком голоса усадила меня рядом с собой.