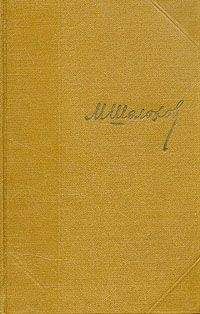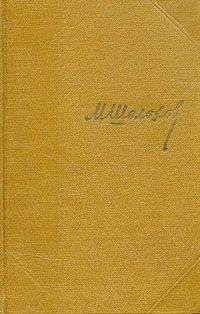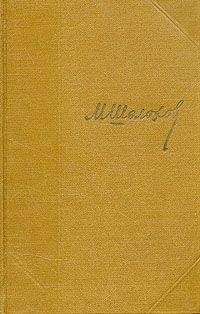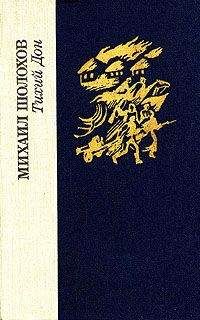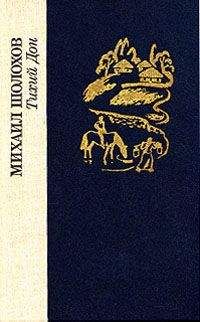Михаил Шолохов - Том 5. Тихий Дон. Книга четвертая
— Плохая воля все-таки лучше хорошей тюрьмы. Знаете, как говорят в народе: крепка тюрьма, да черт ей рад.
Капарин палочкой чертил на песке какие-то фигуры, после долгого молчания сказал:
— Необязательно сдаваться, но надо искать какие-то новые формы борьбы с большевиками. Надо расстаться с этим гнусным народом. Вы — интеллигентный человек…
— Ну, какой там из меня интеллигент, — усмехнулся Григорий. — Я и слово-то это со трудом выговариваю.
— Вы офицер.
— Это по нечаянности.
— Нет, без шуток, вы же офицер, вращались в офицерском обществе, видели настоящих людей, вы же не советский выскочка, как Фомин, и вы должны понимать, что нам бессмысленно оставаться здесь. Это равносильно самоубийству. Он подставил нас в дубраве под удар и, если с ним и дальше связывать нашу судьбу, — подставит еще не раз. Он попросту хам, да к тому же еще буйный идиот! С ним мы пропадем!
— Так, стало быть, не сдаваться, а уйти от Фомина? Куда? К Маслаку? — спросил Григорий.
— Нет. Это такая же авантюра, только масштабом крупнее. Сейчас я иначе смотрю на это. Уходить надо не к Маслаку…
— А куда же?
— В Вёшенскую.
Григорий с досадой пожал плечами.
— Это называется — опять за рыбу деньги. Не подходит это мне.
Капарин посмотрел на него остро заблестевшими глазами.
— Вы меня не поняли, Мелехов. Могу я вам довериться?
— Вполне.
— Честное слово офицера?
— Честное слово казака.
Капарин глянул в сторону возившихся у стоянки Фомина и Чумакова и, хотя расстояние до них было порядочное и они никак не могли слышать происходившего разговора, — понизил голос.
— Я знаю ваши отношения с Фоминым и другими. Вы среди них — такое же инородное тело, как и я. Меня не интересуют причины, заставившие вас пойти против советской власти. Если я правильно понимаю, это — ваше прошлое и боязнь ареста, не так ли?
— Вы сказали, что вас не интересуют причины.
— Да-да, это к слову, теперь несколько слов о себе. Я в прошлом офицер и член партии социалистов-революционеров, позднее я решительно пересмотрел свои политические убеждения… Только монархия может спасти Россию. Только монархия! Само провидение указывает этот путь нашей родине. Эмблема советской власти — молот и серп, так? — Капарин палочкой начертил на песке слова «молот, серп», потом впился в лицо Григория горячечно блестящими глазами: — Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится революция и власть большевиков! Знаете ли, меня охватил мистический ужас, когда я узнал об этом! Я трепетал, потому что это, если хотите, — божий перст, указывающий конец нашим метаниям…
Капарин задохнулся от волнения и умолк. Его острые, с тихой сумасшедшинкой глаза были устремлены на Григория. Но тот вовсе не трепетал и не испытывал мистического ужаса, услышав такое откровение. Он всегда трезво и буднично смотрел на вещи, потому и сказал в ответ:
— Никакой это не перст. Вы в германскую войну на фронте были?
Озадаченный вопросом, Капарин ответил не сразу:
— Собственно, почему вы об этом? Нет, непосредственно на фронте я не был.
— А где же вы проживали в войну? В тылу?
— Да.
— Все время?
— Да, то есть, не все время, но почти. А почему вы об этом спрашиваете?
— А я на фронте с четырнадцатого года и по нынешний день, с небольшими перерывами. Так вот насчет этого перста… Какой там может быть перст, когда и бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С пятнадцатого года, как нагляделся на войну, так и надумал, что бога нету. Никакого! Ежели бы был — не имел бы права допущать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили бога, оставили его одним старикам да бабам. Пущай они потешаются. И перста никакого нету, и монархии быть не может. Народ ее кончил раз навсегда. А это, что вы показываете, буквы разные перевертываете, это, извините меня, — детская забава, не больше. И я трошки не пойму — к чему вы всё это подводите? Вы мне говорите попроще да покороче. Я в юнкерском не учился и не дюже грамотный, хотя и офицером был. Ежели бы я пограмотнее был, может и не сидел бы тут с вами на острове, как бирюк, отрезанный половодьем, — закончил он с явственно прозвучавшим в голосе сожалением.
— Это не важно, — торопливо сказал Капарин. — Не важно, верите вы в бога или нет. Это — дело ваших убеждений, вашей совести. Точно так же не имеет значения — монархист вы или учредиловец, или просто казак, стоящий на платформе самостийности. Важно, что нас объединяет единство отношений к советской власти. Вы согласны с этим?
— Дальше.
— Мы делали ставку на всеобщее восстание казаков, так? Она оказалась битой. Теперь надо выпутываться из этого положения. С большевиками можно бороться и потом и не только под начальством какого-то Фомина. Важно сейчас сохранить себе жизнь, поэтому я и предлагаю вам союз.
— Какой союз? Против кого?
— Против Фомина
— Не понимаю.
— Все очень просто. Я приглашаю вас в сообщники… — Капарин заметно волновался и говорил уже, прерывисто дыша: — Мы с вами убиваем эту троицу и идем в Вёшенскую. Понятно? Это нас спасет. Эта заслуга перед советской властью избавляет нас от наказания. Мы живем! Вы понимаете, живем!.. Спасаем себе жизнь! Само собою разумеется, что в будущем при случае мы выступаем против большевиков. Но тогда, когда будет серьезное дело, а не такая авантюра, как с этим несчастным Фоминым. Согласны? Учтите, что это — единственный выход из нашего безнадежного положения, и притом блистательный выход.
— Но как это сделать? — спросил Григорий, внутренне содрогаясь от возмущения, но всеми силами стараясь скрыть охватившее его чувство.
— Я все обдумал: мы сделаем это ночью, холодным оружием, на следующую ночь приезжает этот казак, который снабжает нас продуктами, мы переезжаем Дон, — вот и все. Гениально просто, и никаких ухищрений!
С притворным добродушием, улыбаясь, Григорий сказал:
— Это здорово! А скажите, Капарин, вы утром, когда собирались в хутор греться… Вы в Вёшки собирались? Фомин разгадал вас?
Капарин внимательно посмотрел на добродушно улыбавшегося Григория и сам улыбнулся, слегка смущенно и невесело.
— Откровенно говоря — да. Знаете ли, когда стоит вопрос о собственной шкуре — в выборе средств не особенно стесняешься.
— Выдали бы нас?
— Да, — честно признался Капарин. — Но вас лично я постарался бы оградить от неприятностей, если б вас взяли здесь, на острове.
— А почему вы один не побили нас? Ночью это легко было сработать.
— Риск. После первого выстрела остальные…
— Клади оружие! — сдержанно сказал Григорий, выхватывая наган… — Клади, а то убью на месте! Я зараз встану, заслоню тебя спиной, чтобы Фомин не видал, и ты кинешь наган мне под ноги. Ну? Не вздумай стрелять! Положу при первом движении.
Капарин сидел, мертвенно бледнея.
— Не убивайте меня! — прошептал он, еле шевеля белыми губами.
— Не буду. А оружие возьму.
— Вы меня выдадите…
По заросшим щекам Капарина покатились слезы. Григорий сморщился от омерзения и жалости, повысил голос:
— Бросай наган! Не выдам, а надо бы! Ну, и хлюст ты оказался! Ну, и хлюст!
Капарин бросил револьвер к ногам Григория.
— А браунинг? Давай и браунинг. Он у тебя во френче, в грудном кармане.
Капарин вынул и бросил блеснувший никелем браунинг, закрыл лицо руками. Он вздрагивал от сотрясавших его рыданий.
— Перестань ты, сволочь! — резко сказал Григорий, с трудом удерживаясь от желания ударить этого человека.
— Вы меня выдадите… Я погиб.
— Я тебе сказал, что нет. Но как только переедем с острова — копти на все четыре стороны. Такой ты никому не нужен. Ищи сам себе укрытия.
Капарин отнял от лица руки. Мокрое багровое лицо его с опухшими глазами и трясущейся нижней челюстью было страшно.
— Зачем же тогда… Зачем вы меня обезоружили? — заикаясь, спросил он.
Григорий нехотя сказал:
— А это — чтобы ты мне в спину не выстрелил. От вас, от ученых людей, всего можно ждать… А все про какой-то перст толковал, про царя, про бога… До чего же ты склизкий человек…
Не взглянув на Капарина, время от времени сплевывая обильно набегавшую слюну, Григорий медленно пошел к стоянке.
Стерлядников сшивал дратвой скошевку на седле, тихо посвистывал. Фомин и Чумаков, лежа на попонке, по обыкновению играли в карты.
Фомин коротко взглянул на Григория, спросил:
— Чего он тебе говорил? Об чем речь шла?
— На жизнь жаловался… Болтал, так, абы что…
Григорий сдержал обещание — не выдал Капарина. Но вечером незаметно вынул из капаринской винтовки затвор, спрятал его. «Черт его знает, на что он может ночью решиться…» — думал он, укладываясь на ночлег.
Утром его разбудил Фомин. Наклонившись, он тихо спросил: