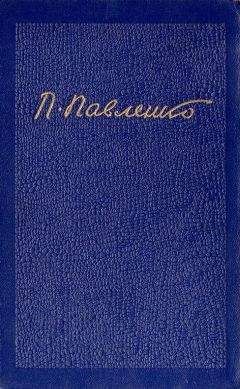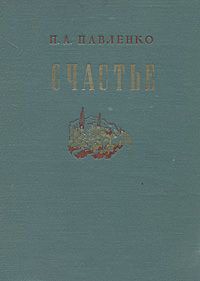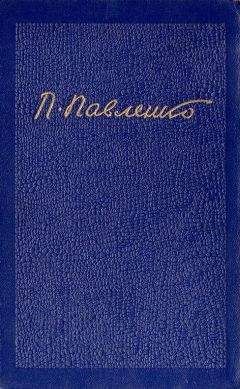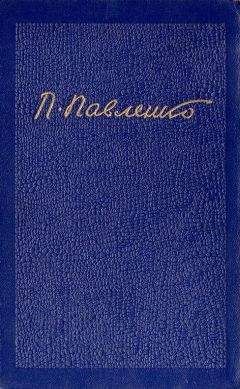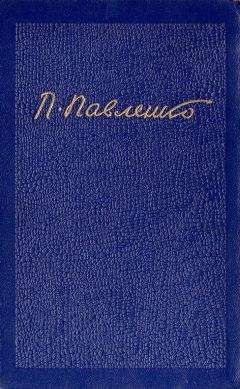Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 2
— Слушайте, пан Войтал, и пусть господь бог благословит вас вниманием: если бы не я и не мне подобные, те несколько культурных и образованных людей, что представляют Чехословакию на мировой культурной сцене, то нашу страну знали бы только проводники поезда Париж — Прага — Вена — Стамбул, как транзитную территорию. Я чех больше, чем вы. У меня просто было больше времени быть чехом, я на добрых двадцать лет старше вас. Так слушайте старого Бенеша. Он говорит: «Чехи, сидите смирно, не путайтесь в ногах у взрослых». И он прав. Не путайтесь, Войтал. Вы мне все время суете в нос, что я американец. Нам, маленькому народу, надо высовываться под чужой вывеской. Бенеш глубоко прав.
— Бенеш — трус. Не надо иметь много места, чтобы быть великим народом. Бельгия, например, не больше нас…
— Ах, бог мой, нашел кому завидовать — Бельгии! — перебил доктор Горак. — Я там бывал еще в ту войну.
Но тут все напали на Горака, чтобы сбить его с пути воспоминаний.
— Немцы так здорово запихали нас подмышку, — нехотя продолжал Горак, — что мы выжили чудом. Но чудо — исключение. Чудо не может быть нормой. Ладно. Один раз выжили чудом, второй раз не вышло, надо ж понять.
— Что не вышло? Чехословакия станет великой маленькой страной.
— Ах, оставьте! Это бывает только в английских детских романах — великие маленькие пчелки, великие крошки муравьи, великие устрицы… Вы просто плохо образованы, пан Войтал. Я не понимаю, за что вас ценят в вашей партии! Сами же вы восторгаетесь, что этот ваш Юлиус Фучик не покинул Праги, остался там, и — знаете — я, если хотите, преклоняюсь перед ним. А вы? Даже если вы приедете в Прагу на белом коне и если даже вам поставят такой памятник, как святому Вацлаву или Яну Гусу, все равно я больше стану уважать вашего Фучика, от которого, вероятно, уже и пепла не осталось. Поняли? Ну, потренировались и хватит. Мозговая зарядка не должна утомлять мозга. Вы видите, я и в этом случае щажу ваш молодой, не совсем еще зрелый мозг. Пойдемте завтракать.
Как-то Войтал спросил Ольгу:
— Вы не любите доктора Горака?
— Не люблю и не понимаю, как вы можете всерьез спорить с ним.
— Поймите, таких, как он, у нас очень много. Я тоже не люблю его. Но я должен жить с ним рядом. Я не могу уничтожить его. Я обязан его переспорить и убедить. Я отвечаю за него перед своей совестью, а вы — нет. Вам все равно. Вы в стороне. Хорошо вам, что Сталин и партия расчистили для вас жизнь. Мы с вами, Ольга, живем сейчас в одной стране, но это не значит, что мы живем в одном и том же измерении. Мы на советской земле, но душа моя стоит обеими ногами на чешской. Я все измеряю той мерой, что дома.
— Не знаю, я плохо вас поняла. В общем, вы все какие-то сложные, с вами так трудно…
— И с Хозе?
— Нет, с ним как-то проще. Он злее вас.
— А Шпитцер?
— А Шпитцер… Вы знаете, я ничего не могу сказать о нем. Иногда мне кажется, он совсем свой, давнишний, а иногда как тесто: лепишь его, лепишь, а оно никак но лепится.
— В общем, для вас это хорошо, что вы с нами. У вас мало знают западноевропейских людей.
— Почему мало? — Ольга явно обиделась. — У нас все отлично знают… и Димитрова, и Тельмана.
— Вы забыли, Ольга, Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
— Ничего я не забыла, я хочу сказать, что Долорес Ибаррури, наверно, была бы мне понятнее вас.
— Ах, вот что! — и Войтал, несколько озадаченный исходом беседы, невольно ускорил шаг. Ольга сочла за лучшее не нагонять его.
Доктор Горак, Хозе, Шпитцер, Раиса Борисовна и Ахундов уже приступили к завтраку, неумело сидя — за исключением Ахундова — на корточках или поджав под себя ноги, как принято в Средней Азии, где не приняты столы и стулья, где ковер и подушка — вся мебель.
— Получили по носу? — спросил Горак, и все, включая Шпитцера, не понявшего слов, но догадавшегося о смысле их, добродушно рассмеялись.
— Ольга, идить кушьять, — позвал Хозе, но она сделала вид, что не расслышала его зов, хотя и не могла не понять, что поступает по-детски.
По-детски! Тогда не нужно говорить с ней, как со взрослой, и вступать с ней в споры по вопросам политики. Нашли тоже девочку, которая будет смотреть им в глаза и поддакивать во всех случаях, а у нее свое мнение, свои глаза, свои симпатии!
Она рассеянно бродила по аллейкам молодого сада, распланированного по-европейски, с клумбами, куртинами, цветочными оторочками дорожек, и Хозе издали следил за нею любуясь.
Она не очень много знала, эта горячая русская девушка, и была на редкость наивна, но в ней чувствовалась особая психическая организация, отличающая ее от всех девушек мира. Ольгу нельзя было сравнить ни с испанками, ни с итальянками, ни с француженками ее возраста и воспитания — и не потому, что Ольга резко выделялась своими знаниями, умом, — нет, она решительно ничем не выделялась бы среди сверстниц других наций, кроме иной, чем у них, ни на что не похожей манерой относиться к миру с какою-то, очевидно, врожденной, органической категоричностью. Она жила, зная, зачем и для чего она существует, что ей предстоит сделать в жизни, и была у нее твердая вера в свои силы и в правоту своей страны и убежденность, что она, семнадцатилетняя десятиклассница Ольга Собольщикова, живет на много десятилетий впереди и доктора Горака, и Войтала, и Хозе Мираля и что, как бы умны, опытны и дальновидны они ни были, а все равно она опытнее их, несмотря на то, что и не жила еще и мало знает. Но она опытнее, потому что впереди, потому что в свои семнадцать лет она старше всех их.
Они все поднимались по крутому подъему вверх, и она опередила их только потому, что родилась у идущих быстрее, у тех, кто был в авангарде, кто успел подняться выше, чем остальные. И теперь она стояла где-то у самых высот подъема и, оглядываясь назад, следила за тем, как берут подъем хорошие и плохие, старые и молодые люди других стран; ей было многое виднее, чем им.
Сбросив косы на грудь и попеременно теребя то одну, то другую, она гуляла по реденькому саду, загорелая до того, что кожа бессовестно лупилась у нее на носу, и все-таки бело-русая, светлая, настоящая северянка, и лицо ее выражало непритворный гнев — и нельзя было не залюбоваться ее простотой, сквозившей в каждом взгляде верой в людей, ее строгой и чистой принципиальностью отношений к людям. Это было даже не личным ее качеством, а свойством целого поколения, пожалуй, чертой эпохи, к которой принадлежала она по праву рождения.
— Мы замучили, кажется, нашу Ольгу, — сказал доктор Горак. — Хорошо бы дать ей отдохнуть. Куда мы сегодня направляемся, господин Ахундов?
План, как всегда, оказался чудовищный по напряжению, но возражать было поздно. Ахундов уже созвонился с участками, где они должны быть, и там уже специально поджидали их, отказываться не приходилось.
— А товарища Ольгу мы оставим, дадим выходной, — охотно согласился Ахундов, — я поручу ей сделать кое-что для газеты.
— Она, следовательно, отдохнет только от нас, а не вообще? — пошутил Горак.
Вот каким образом Ольга очутилась одна на весь день, с тридцатью рублями аванса, наспех сунутыми ей Ахундовым, и с поручением непременно найти корреспондента Березкина, который должен быть сегодня в районе того колхоза, где они завтракали. Поручение было не сложно: как можно больше узнать у Березкина о положении дел на канале и как можно меньше рассказывать ему об иностранцах.
Когда она, миновав пыльные улицы кишлака, пыльные до того, что нога в тапочке по щиколотку погружалась в лесс, мелкий, как пыль, вышла к трассе, работы шли полным ходом. В палатке участкового штаба томились прорабы, десятник и приезжие. Березкина еще не было, но его ждали с минуты на минуту, и Ольга присела возле палатки подождать его.
Время шло к полудню. Глухой раскаленный день дымился до горизонта. Десятки тысяч лопат и кетменей, экскаваторы, грузовики, носильщики, тачечники, верховые поднимали серую дымовую завесу. Шло сражение, как на старых картинах, где виден только первый, крупный план и смутно угадывается, что же собственно делается там, в глубине.
Одни рыли землю, другие относили грунт на гребень траншеи, третьи правили лопаты и кетмени, разносили воду, четвертые делали плотничьи поделки, пионеры в галстуках работали связными при штабе.
В шуме и грохоте труда прослушивались звуки песен и музыки.
Вдруг из палатки выскочил кто-то в трусах, повидимому, инженер.
— Беги, дочка, к Амильджану, зови сюда, — сказал он ей. — И чтобы скорее. Скажи, Юсупов приехал.
— Какому Амильджану?
— Ай, господи, любой пионер знает!.. Скорей, скорей!
И Ольга, оправив юбку, побежала бегом, сама еще не зная, где ей искать этого Амильджана и кто он собственно. Когда она обращалась к прохожим и спрашивала, кто такой Амильджан и где он может быть, все удивленно пожимали плечами — Амильджана не знаешь? — но где он, ответить никто не мог.