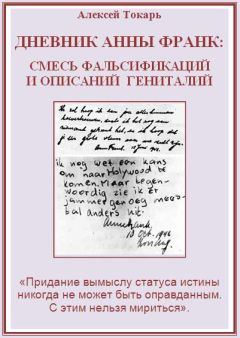Ицхокас Мерас - Желтый лоскут
А мне куда идти? Куда мне деваться?
Когда новая власть издала приказ — под угрозой смерти доставить сбежавших еврейских детей, я находился у сапожника Лукайтиса. Его жене передала меня портниха Даунорене, после того как по соседству с ней поселился фашистский полицай.
Первые дни посадит меня, бывало, Лукайтене за стол и начинает:
— Ты не бойся, ты ешь…
И давай рассказывать, что раньше она всех евреев в городке знала наперечет, что это были хорошие люди, всегда в беде выручали. И вот взяли их и ни за что ни про что загубили, ни в чем не повинных поубивали. Лукайтис между тем косился на нас, что-то бормотал под нос и шумно колотил молотком. От этих разговоров Лукайтене, которыми она старалась утешить меня, и от неприязненных взглядов ее мужа у меня кусок в горле застревал.
Ночью Лукайтис возвращался, тяжело волоча ноги. Расшвыривая табуретки, он добирался до постели, где все спали. Сдирал одеяло, норовя схватить жену за волосы. Сжавшись в уголке, мы замирали, как мыши при виде кошки.
— Да где ты тут, жаба! — орал сапожник. — Я тебе все зубы выбью, ведьма!.. Гаденыша под юбкой схоронила… Никак, погубить нас задумала? Хочешь, чтоб расстреляли? Дудки, не бывать этому! Пойду-ка лучше докажу на вас обоих. Донесу, вот и все! Кхе, кхе…
Закашлявшись, хватался за спинку кровати и после передышки опять давай шипеть:
— Постой, зачем доносить? Сам прикончу. Прирежу, и все. Где мой нож? А ну, подай-ка нож поживее! Слышь, говорю? Дай!
И лез к верстаку. Елозит, шарит, пока не свалится на пол и не захрапит. Тогда Лукайтене тащила его на кровать, а я, забившись в угол, не смыкая глаз, всю ночь просиживал в страхе: вдруг он проснется и впрямь зарежет, никто ведь и слова не скажет, кому до меня дело? Будто муху на стене пальцем раздавили: бац, бац! — и нету.
Наутро Лукайтене уже не так щедрилась на слова утешения, да и знакомых среди евреев в городке у нее оказывалось гораздо меньше. Собирая на стол, она холодно бросала:
— Садись, чего зеваешь!
Дальше и вовсе знакомых евреев у нее не стало. А за столом покрикивала:
— На, ешь, коли дают!
Потом взяли меня их соседи, старички Моцкусы. Славные такие. Были когда-то у них и свои дети, да то ли поумирали, то ли разъехались в чужие края. Спасали не столько меня, сколько вновь обращенную душу. Шутка ли, еврея святой водой окропить! А тут тебе еврей, да еще и крещеный. Милосердный господь наш, добрый пастырь, каждую заблудшую овцу в стадо Христово принимает. Так в святом писании сказано. А кто поможет овечку найти и к пастырю приведет, тот заслужит отпущения грехов на тысячу дней. Ведь одному богу известно, сколько и жить-то осталось старикам в этой земной юдоли.
Утром и вечером, а бывало, и в обед мои приемные родители заставляли меня читать молитвы, чтобы бог простил прегрешения мои, хлеба насущного не пожалел и не дал с голоду помереть. «Отче наш», «Славься, Мария» да и другие молитвы я сыпал как горох. Разбуди меня кто среди ночи, и то без запинки мог бы любую отбарабанить. Старички эти и впрямь домашнего ржаного хлеба не жалели, да еще добрый ломоть сала подкинут, чтоб скорее из меня еврея вышибить. Хоть я, мол, теперь крещеный, христианин, а все же вроде не совсем настоящий. Вначале есть сало было нелегко. С непривычки даже мутило. Потом ничего, привык.
Но уж трусили Моцкусы… Так трусили, что и на меня смертельный страх нагнали. В самый ясный день они не отваживались открыть ставни: все опасались, как бы не пришли те, с белыми повязками на рукавах. А что, разве не могут заявиться и найти? Тогда всех троих в расход. Такой приказ: кто скрывает еврея — тому смерть.
Смерть! Легко сказать. Старики заказали заупокойные молебны — за всех усопших и невинно убиенных, а страх все разрастался, будто у змия из сказки: одну голову отрубили, три новые отросли…
И опять по ночам я не мог уснуть, как у сапожника Лукайтиса. Тогда Моцкусы приказали читать молитву за упокой моих родителей и всех других погибших, непременно поминая их по именам.
И я молился. Только вот беда: никак не вязались еврейские имена с католическими молитвами. Ну разве моя в том вина? Запутаюсь и снова принимаюсь читать сначала. И так без конца. А когда доходил до слов: «Упокой, господи…», слезы подкатывали к горлу, и я с трудом сдерживался, чтоб не завыть в голос. Нет, не вечного покоя для них хотел я, а жизни. Пускай снова живут со мной, как до войны… Отчего они умерли, а теперь не воскреснут, не встанут из могилы? Отчего не придут ко мне? Если Христос мог воскреснуть из мертвых, почему моя мама не может?
В одну такую бессонную ночь я услышал шепот:
— Отец, а ты не спишь?
— Не сплю, мать, не сплю…
— Боюсь, отец, ой боюсь… А вдруг да найдут его у нас…
— Да, найдут, а как же…
— Убьют нас, Повилас, и века своего не доживем. Как пить дать убьют. Что делать-то, как быть, чтоб миновала нас кара божья?..
— Не знаю, мать. Что уж тут поделаешь — не щенок ведь, не выбросишь.
— Давай отдадим его Гришюсам, тем, знаешь, бездетным, что у околицы живут. Молодые, а своих детей у них нет, вот, может, и возьмут…
— Так ведь Гришюс этот фармазон[6], бога не боится. Как же тогда со спасением души, с отпущением грехов как?
Молчание.
— Отец, а ты не спишь?
— Не сплю, мать, нет…
— Не разгневается всевышний.
— Как же так не разгневается?
— В десяти заповедях что сказано? Люби ближнего, как самого себя. Какая же это любовь, если самого себя под пулю подставляешь? Не так разве? Ведь подставляешь?
— Стало быть, так. Под пулю… Подставляю…
— Так отдадим его Гришюсам, отец?..
— А с душой-то как, мать, а?
— Мы в лоно господне эту овечку пригнали? Пригнали. Молитвам обучили? Обучили. А дальше, может, уж сам господь свою овечку пасти будет. И не даст этим фармазонам растлить невинную душу агнца…
— Как же, и не даст.
Назавтра я попрощался со старичками Моцкусами, с их молитвами во здравие и за упокой, с черным хлебом и белым салом. Взяли меня небогомольные Гришюсы-фармазоны.
В первый же день новый приемный отец похлопал меня по плечу и сказал, не скрывая улыбки:
— У меня тебе жить будет вольготно. У меня будешь расти свободным человеком.
На другое утро в дверь всунула голову соседка и зачастила:
— Святой боже, активисты ходят по домам, евреев ищут.
— Господи Иисусе! — взвыла жена Гришюса и стала звать своего мужа: — Юозас! Юозас!
Не успели еще белые повязки показаться на нашей улице, а может быть, они и вовсе не появились, как у меня уже были новые родители — Квядарасы…
И пробыл я у них, у Квядарасов, значит, ровно полтора дня.
А куда теперь податься? Эти уже никого и не подыскивали, никому меня не передавали. Да, верно, никто и не брал добро такое…
Надо идти. Но куда идти? Куда? Не век же сидеть тут на завалинке на пыльной, всеми забытой окраинной улице? Утопиться разве? Как топят слепых котят…
Но кто мешок над головой завяжет?
Прыгают, чирикают воробьи. Вот и червяка нашли, верно, отнесут своим птенцам в гнездышко. А меня-то уж никто не возьмет, никто в своем гнезде не приютит…
Глаза заволокло туманом, и я совсем ничего не видел перед собой.
Пил с утра до самой ночки,
Осушил до дна полбочки.
Слава бочке, шинкарю,
Юргису плешивому!
Услыхав песню, я вытер слезы. По улице, поднимая пыль, шел какой-то мужчина. Я уставился на него, а он почему-то на меня.
— Иди сюда, малец, иди, говорю!
Я съежился от страха.
— Ага, не идешь… — И он, шатаясь, стал приближаться ко мне. — А ты чей будешь?
Я таращил на него испуганные глаза.
— Да ты не бойся… Я человек добрый. Ну хватил малость, так что? Разве это грех? Земля, что ли, провалится?
Он присел рядом.
— Чей ты будешь? А? И ревешь, парень… Э-эх! Так чей же ты все-таки?
— Я… Я ничейный… Я сам по себе… Еврей.
— Вот оно что. Да, да, понимаю. Так, так…
— Некуда мне деваться, вот и сижу, думаю, куда идти, — осмелел я.
— Куда идти, говоришь? Никуда не ходи! И никому не говори, кто ты такой есть. Нынче люди, сам знаешь, как волки! Всего ждать можно…
— Держать меня никто не хочет, боятся все. Никто не берет… Дяденька, завяжите меня в мешок и киньте в реку. Куда мне больше деваться?
— Ну и ну! Так бы сразу и сказал. Ах, ты! В реку, говоришь, как котенка! Ха, ха! Я тебе как всыплю, будет тебе в реку!
Появившееся было доверие к незнакомцу мигом улетучилось, я задрожал, как цыпленок при виде коршуна. И кто меня дернул за язык! Уж лучше бы не говорил о мешке.
— Так, значит, держать не хотят? — кивнул он на дверь.
— Не хотят…
— А взяли?
— Взяли.
— Стало быть, на попятный пошли, свиньи вонючие! А есть у тебя тут одежонка какая?