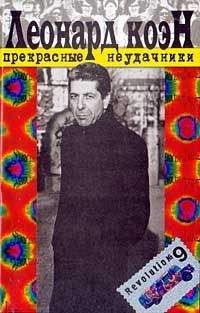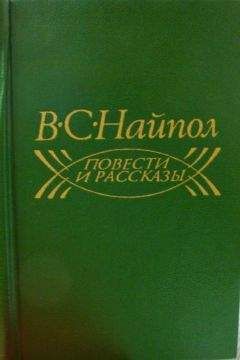Фзнуш Нягу - Властелин дождя
— А адвокат где ж? — спросила Ана, чувствуя, как к горлу подкатывает ненависть.
С минуту она глядела на мужа ледяным, замораживающим взглядом, не в силах произнести ни слова.
— Ах ты, пьяная рожа! — выдавила она наконец. — К адвокату и не ездил, в корчму завернул! Никудышник!
Последняя капля переполнила чашу терпения: Петря обезумел. Тяжелым звериным огнем полыхнуло из-под заиндевелых ресниц. Как разъяренный медведь, обрушился он на Ану и молотил, молотил, молотил кулаками, покуда она мешком не рухнула к его ногам.
— Измываться! Надо мной! — орал он, не помня себя от бешенства. — За дурачка меня держишь? Спятил я в такую метель из дому переться? Адвокат тебе понадобился, сама и поезжай!..
Ана переносила побои стойко, увертывалась, прикрывала лицо руками, тихо охала. Напоследок Петря пнул ее так, что она откатилась к стене, на солому. Он выпряг лошадей, тщательно обтер им бока. Лицо у него заколело от мороза, руки плохо слушались. День выдался — хуже некуда. Петря готов был выть от злости. Адвокат сказал ему: «Притащил бы старика сюда, мы бы дело и обтяпали. А как — это уж моя забота! Кто платит, тот получает».
Держась за стенку, Ана поднялась, потерла ушибленное плечо, ненависть ее, казалось, не угасла.
— Ну! — угрожающе прорычал Петря, как бы желая сказать: навязалась на мою голову! Но вместо этого спросил, кивнув на дверь: — Не издох еще?
Все бы он сейчас отдал, самое душу дьяволу не пожалел, лишь бы гнил старый хрыч давно в могиле.
— Живой, — отозвалась Ана. — Поп у него, пойдем и мы.
Ведьма она сущая, эта Ана, ничто ее не берет — ни побои, ни ласка, знай сзое гнет, утроба ненасытная!
Батюшка Пэскуц присел на кровать, ряса его благоухала базиликом, дешевыми свечами и ракией: он только-только вернулся с крестин. Ана и Петря смиренно поклонились ему, он с улыбкой кивнул в ответ и вновь оборотился к старику.
— Что, Мироша, пришел и наш черед? — спросил он, пришепетывая.
Лицо Марина страдальчески сморщилось, поп заметил свою оплошность, успокоил:
— Ну-ну, ничего, может, оно еще и обойдется… Вы уж ступайте, оставьте нас…
Все трое вышли в сени.
Марин закурил и, жадно затягиваясь, молчал. Глаза у него еще больше ввалились, резче обозначились скулы. Сколько ни приучал он себя к мысли, что смерть не обойдет их дом стороной, свыкнуться с ней не мог, все берег надежду.
— Теперь хана, — нарушил молчание Петря. — Раз поп говорит, так и есть. Попы, они в этом деле ученые…
— Помучается еще, — возразила Ана. — Не может он нас в обиде оставить…
Марин растоптал недокуренную сигарету, схватил Ану за плечи и выставил на мороз.
— И ты уйди, добром прошу, — едва слышно сказал он брату, оставляя дверь открытой.
И вернулся к больному. Батюшка, прощаясь, уже надевал кожух, надел кожух и Марин. Ана видела из окошка, как сани выехали со двора и заскользили по дороге на озеро, к хутору, и, не теряя времени, помчалась к свекру. Петря уже топтался возле отцовой кровати и канючил:
— Бать, а бать, сжалься. Не бери греха на душу, дай землицы… Хоть самую малость… Не заставь злом поминать, бать, а бать…
— Ты свою получил. Больше нету. Где взять? Ана, голубушка, прикрой мне ноги платком, зябну…
Ана подошла к изножью, вдруг Петря с силой отпихнул ее и прошептал, будто в беспамятстве:
— Сымай! Все сымай! Носки стаскивай, безрукавку! Раздевай догола! Пущай мерзнет! Черти в ад и нагишом примут! Все бери, все уноси!
Пока теплилась в душе надежда, оставались и силы терпеть, смиренничать. Но оставила надежда — враз и силы не стало.
С каким-то ликующим злорадством Ана принялась стаскивать со свекра, собирать вещи, увязывать в узел.
— Стой! Погоди! — вдруг остановил ее Петря, и Ана послушно замерла. — Ступай запряги сани, поставь около крыльца. Кожухи не забудь и бутылку ракии. Живо!
Дважды повторять не пришлось. Баба мигом смекнула, что муж надумал, ног под собой не чуя, кинулась исполнять. Минут десять спустя стояла уже на пороге с кожухами в руках.
— Готово… А как же…
В глазах больного вспыхнул ужас.
— Сыночек! Петря! Ты что надумал?.. Не трожь… Смилуйся!
— В больницу тебя свезу. Там и помирать легче…
Петря накинул на старика кожух и, заламывая ему руки, стал запихивать в рукава. Старик, насколько хватало сил, сопротивлялся, да где уж сладить.
— Отпусти меня… Бога побойся!.. — шептал он.
Ана бросилась помогать мужу, вдвоем они одолели: запихнули отца в шубу, обвязали охотничьим ремнем и чуть ли не волоком потащили к саням, уложили, накрыли вторым кожухом и двумя попонами сверху, от которых несло конским потом и навозом.
Ну уж на этот раз я своего добьюсь, думал Петря, не дам помереть, покуда по-моему не сделает. Адвокат на эти дела ученый!
Лошади рванули с места, Ана посмотрела вслед и пошла к себе в дом, заперлась на все запоры.
Темнело.
Сани быстро неслись по пустынной, запорошенной снегом, ухабистой, опасной дороге. Зловеще и угрожающе завывала вьюга. Жутко становилось на душе от этого воя. Но обратно уже не повернешь. А ну, как Марин пустится в погоню? Холодный пот прошиб Петрю, он нашарил топор, придвинул, чтобы под рукой был. Старика катало и подбрасывало в санях, как чурку.
— Ляг на живот, теплее будет, на вот ракии хлебни. До ночи в город доберемся, может, и того раньше…
— Повороти, сил моих нету! — взмолился отец. — Коченею… Как только тебя земля носит?..
И молча, без слез заплакал. Он не понимал, куда его везет Петря, старался высвободить из-под кожуха руки, поймать повод, повернуть коней обратно. Сено громко шуршало, скрипело. Где человек родился, там и помирать должен. На что ему доктора?
— Петря, останови! На што мне город?
— Доктора там больно хорошие!
Старик не услышал. Сердце едва-едва билось, отдаваясь в висках редкими, глухими ударами, нестерпимо болели отмороженные уши. Не было под рукой ни теплой шали — укутать шею, ни горячих кирпичей — отогреть ноги.
А Петря разогревался ракией. Он уже ничего не соображал, один лишь неистребимый страх преследовал его. Перед глазами неотступно стоял Марин. Только бы не догнал, только бы поспеть! Петря оглядывался, всматриваясь в дорогу, напряженно прислушивался. Да где там разберешь? Где услышишь? Только вьюга выла, свистела, швыряла в лицо снег, слепила глаза. Носилась она кругами, рыдая и хохоча, будто тут хотела похоронить, тут и отпеть. Прямо перед собой Петря увидел дышло — куст, что ли, или столб? Кони шарахнулись в сторону, и Петря, не совладав с ними, выронил поводья. Сани накренились, старик чуть не вывалился в снег. Петря быстро поймал поводья, дернул, выправил сани. Рук он не чувствовал, дул на них, чтобы отживели… Старик молчал. Не замерз бы. А ракия на что? Петря сунул старику бутыль.
— Пей! — кричал он. — Пей! Согрей нутро! Чего морду-то воротишь? Пей, согреешься, заснешь… А ежели по совести сказать, батя, ты уже свое отжил…
До города оставалось с час пути, не меньше. Целая вечность! А что потом?.. Потом-то?.. Потом батя оставит ему огороды, денег будет — пруд пруди. Что ему тогда Марин — тьфу!
Дорога все не кончалась, а куда бежала — неведомо. Один жеребец захромал, подковой засекся, ну и ладно, лишь бы не околел.
До слуха Петри внезапно донесся звон колокольчика, прозвенел и затерялся где-то позади, в метели; потом опять возник, стал нагонять, разрастаться, заполняя ночь пронзительным плачем.
Петря заледенел. Марин! Марин напал на след! От страха дернул поводья, да так, что лошади встали как вкопанные, сани тряхнуло и снова чуть не опрокинуло. Соскочившая шлея опутала лошадям ноги. Петря, охая, вылез, пошел выпутывать. Колокольчик теперь заливался плачем где-то впереди. Обогнал! Нет, опять подъезжает. Ближе, ближе… Петря нашарил рукою топор. И, потеряв равновесие, повалился прямо на старика.
— Воры! Волки! — заорал он с неподдельным ужасом, сам не понимая, что и зачем кричит. Смертный страх охватил душу.
Лошади понеслись как безумные. И будто затоптали копытами таинственный звон колокольчика…
Очнулся Петря уже в черте города, сам не ведая, как тут оказался. Увидел вдруг над санями, над стариком поднятый шлагбаум.
— Ну, теперича недалеко, сперва к приятелю завернем, потом уж и в больницу. А отлежишься — заберу тебя к себе.
Хриплым голосом старик пробормотал:
— Розы… накрыть… померзли…
Петря исступленно хлестал лошадей. Миновали улицу, другую, въехали на широкий, словно постоялый, двор. Петря выскочил из саней, поднял старика на руки. Глаза у старика огромные, широко-широко раскрыты, снег падает, а он и не щурится. И сам тяжелый, как мешок свинца…
— Батя… Слышь, батя… — прошептал Петря.
Но ответить было некому. Петря выпустил тело и зажал руками уши. У ворот стояли сани. И гремели, надрывались безумные колокольцы…