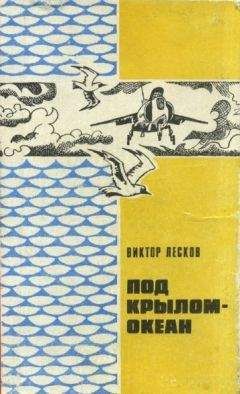Юрий Платонычев - А дальше только океан
Счастье!.. Разная у него мера. Одно — большущее, необъятное, связанное, наверное, только с Родиной. Другое — поменьше, оно сугубо личное: это — любовь, семья. Но вот есть и такое: преодолел что-то трудное, вывернулся из какой-то беды — и на душе хорошо, ты тоже счастлив!..
Пока катера привязывали к пирсу, Павлов успел созвониться с дежурным:
— Как у Винокурова?
— Держится! — Натужный тенорок Самойленко еле пробивался сквозь шорохи и трески. — А у нас здесь трубу с котельной свалило. Там сейчас Рыбчевский.
— Пусть Рыбчевский мне позвонит, — сразу помрачнев, процедил Павлов. — Да и Ветров тоже.
Рыбчевский не заставил себя долго ждать и рассказал, что труба никого не задела, ничего не повредила, что котел пришлось загасить, но, мол, остальные четыре вполне справятся, что сейчас он уже заканчивает с дыркой в крыше.
Ветров позвонил немного позже:
— И вам, Виктор Федорович, всех благ!.. Рад, что управились скоро. Ждем вас.
— Дождетесь! — улыбнулся Павлов, переглянувшись с Власенко. — Сейчас еще раз проверим швартовку и тронемся в клуб. Хоть и припоздаем немного, но лучше поздно, чем…
Небольшой уютный клуб, несмотря ни на что, дышал новогодьем. Посередине пыжилась иголками нарядная елка, искусно собранная из веток кедрача. Оказалось, что соорудил ее Серов, с которым только что познакомился Павлов; он и тут постарался, хотя теперь сам и не видит, сколько веселья доставил людям. Вперемежку со сверкающими на свету шариками, колокольчиками и фонариками из густой зелени выглядывают потешные фигурки с синими воротниками. То дружеские шаржи доморощенного скульптора старшего лейтенанта Валерия Рогова — торпедиста у Власенко. Носатые и губатые куклы прямо-таки притягивают моряков. Однако оригиналы-прототипы на Рогова не обижаются, а может, и обижаются, да вида не показывают…
— Смотри, Шулейкин, это же ты!
— А по-моему, Гриня, вон там я вижу твой портрет. Вылитый.
— Скажешь! Погляди на нос!..
— Будет вам, ребята, — вступает третий, — это, конечно, я.
Телевизор, вознесенный над сценой, веселится «Голубым огоньком», вокруг елки, на столиках, дымится крутой кофе, витает вкуснейший запах пирожков с мясом, сотворенных здешним шеф-коком Пашей Куриленко.
Моряки принарядились и под рев шторма как-то особенно дружно разместились у елки. Телевизор временно приглушили: ждут, что скажет командир.
«А чего желают в таких случаях?» — вспоминал Павлов.
Рядом с ним стоял старшина Трикашный. Говорят, он сильный торпедист, завзятый шлюпочник. Придет время, посмотрим, какой он там сильный, какой завзятый, а вот что парень он симпатичный — это да! За Трикашным матрос тоже ничуть не хуже. Такой же плечистый, широкогрудый, с такой же спортивной прической. А дальше? И дальше такие же оживленные, иссеченные пургой, задубелые лица.
«Мировые парни! А я еще позволял себе думать, что не повезло с назначением, — усмехнулся Павлов. — И слова им надо сказать самые такие…»
— Мне передавали, — наконец заговорил он, — что в прошлом году вы славно потрудились, что подводники стали добром поминать наших торпедистов. Желаю вам и в наступившем году этой славы. Успеха вам в службе, друзья! Здоровья и удачи! С Новым годом!
— Ур-ра-а-а!.. — взволнованно громыхнуло в ответ, и душистый кофе показался ничуть не хуже шампанского.
Потом Дед Мороз — самый рослый моряк Наумов — блистал остроумием, оглашая поздравления со значением, потом пели песни, много песен. Особенно получилось «Раскинулось море широко». И хотя песня совсем не новогодняя, повеяло таким братством, таким теплом, таким близким показался локоть соседа, что моряки пели и невольно думали, насколько легче им живется, когда они вот так все вместе.
А утром позвонил Жилин.
— Да-а-а, — сумрачно растянул он. — На волоске пляшете, дорогие! Пойдет в том же темпе — не сносить и мне головы!.. Почему оторвало катера?
— Перетерся трос, — сдержанно объяснил Павлов.
— Почему раньше не заменили?
— Не вышел срок. Тут, я смотрю, они выходят из строя куда раньше срока…
— Только не тросы, а головы ваших подчиненных! — хрипло проговорил Жилин. В его словах звучала сама нетерпимость.
— Отмечаю, — продолжал Павлов, будто не слышал жилинского раздражения, — торпедистов Власенко и лыжников Винокурова…
— Куда там! — Эти слова Жилина резанули: смысл их и через километры дошел до Павлова мгновенно. — Как бы не пришлось награждать! Только чем?
Павлов смолчал. Конечно, может, и виноваты те, кто следил за тросами, хотя Павлов сам видел разрыв и убедился, что он свежий. Но как не ободрить матросов, которые так ловко орудовали концами, не жалели себя, спасая попавшего в беду товарища, чинили дыру в котельной — и все это в пургу, в адской кутерьме!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Лиля прижимала к подбородку платье, сшитое для Нового года, и беззвучные слезы, слезы досады, растекались по тяжелому серебристо-сиреневому шелку.
«Почему так? Почему не повезло? Почему пурга?..» — Лиля Городкова очень себя жалела. Еще бы! Сколько надежд возлагалось на это злосчастное платье, как хотелось блеснуть, вызвать своим видом зависть женщин, особенно у этой задаваки Лизы Малышевой. Подумать только, специально задержалась в Ленинграде, чтобы пробиться к лучшей портнихе! Спасибо, еще случай помог: портниха лечила зубы у Маргариты Яковлевны, матери Лили. Правда, затянула портниха немилосердно, все ссылалась на известную певицу, собиравшуюся в поездку по Европе, которую, мол, приходится обшивать в первую голову. Зато, когда Лиля принесла платье из ателье и облачилась в него, даже постоянно брюзжащая Маргарита Яковлевна всплеснула руками:
— Лиля, ты великолепна!
Лиля и сама тогда чувствовала себя так, словно у нее выросли крылья.
«К чему оно здесь?» — Она зло отшвырнула платье, как будто из-за него на улице пурга и никакого бала не будет.
— Не вертись у огня! — ни с того ни с сего, размазывая пальцами слезы, накричала она на маленькую Веронику. — Только пожара и не хватает! Бесенок какой-то, а не девочка. Вся в папу!
Воспоминание о муже вызвало новый прилив гнева. Это все он, он виноват, что они прозябают шестой год в этой людьми и богом забытой дыре. Если бы захотел, давно перевелся бы на запад, в крайнем случае во Владивосток. Всюду люди живут как люди, а здесь!.. Лиля зажмурилась, представила себе Невский, праздничные огни елок, яркие витрины, музыку, представила, как мать своими красивыми полными руками выкладывает щипцами пирожные из «Севера», как ставит высокие, в виде тюльпанов, бокалы с шампанским на крахмальную салфетку, накинутую поверх плюшевой скатерти… За пять минут до Нового года в дверь деликатно постучится сосед Эдик с букетиком фиалок или нарциссов. Как все это незабываемо, как близко и, даже страшно подумать, как невообразимо далеко!
«А здесь вот она, праздничная иллюминация! — Лиля перевела взгляд на керосинку — источник света и тепла, на которой шипели пресные лепешки. — Отчего они такие: резина резиной? Кажется, не пожалела ни яичного порошка, ни сухого молока…»
— Мама, дай хлебушек, — требовательно наморщив носик, канючит Вероника.
Лиля отламывает кусок горячей лепешки, пахнущей содой и керосином, но девочка недовольно машет руками:
— Не хочу, хлебушек дай!
— А это что?
Вероника произносит не очень лестное слово в адрес Лилиных лепешек и, получив по заслугам, оглашает маленькую кухоньку громкими воплями.
— Будешь капризничать — отправлю в комнату!
В комнату и заглянуть боязно: темно, холодно, и страшно гудят вконец залепленные снегом окна. Такое наказание сильнее шлепков, и Вероника умолкает, надменно поджав пунцовые, словно два лепестка, губы.
«Вылитый отец. Такая же упрямая. — Лиля тяжело вздыхает и уже без злости, с примесью горечи, думает: — За что я ее?.. Ведь ребенок, хлеба просит».
Как досадно получилось! Неделю назад Городковы с Малышевыми заказали столик в «Золотом якоре», а позавчера Юра принес два пригласительных билета в Дом офицеров. Так все удачно складывалось: Лиля уже и с соседкой договорилась насчет дочери. А пурга налетела до того внезапно, что Лиля о хлебе не успела и подумать. Да разве только о хлебе?..
— Потерпи, доченька, скоро пурга кончится. — Она протянула Веронике бисквит и погладила ее по упругим, сразу расцветшим в улыбке щекам. — Будет у нас и хлебушек, и яблоки, и все-все.
— И папа.
— И папа тоже.
«Папа!.. Он, конечно, не верит, что я из-за платья задержалась. Думает, с Ленинградом не могла расстаться, с мамой. Еще и к Эдику ревнует. Глупый!.. А может, не глупый? Разве не приходило ей в голову, что зря она не связала судьбу с этим смазливым парнем? Приходило, и довольно часто, хотя она и отгоняла прочь эти мысли. Конечно, сравнивать Эдика с ее Городковым смешно. Городков есть Городков — мужественный, уверенный в себе и в своих поступках. Но разве этого достаточно?.. Нет и еще раз нет! Каждый день, каждую минуту Лиле казалось, что она безвозвратно теряет что-то неимоверно дорогое.