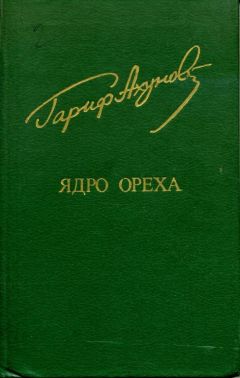Гариф Ахунов - Ядро ореха
...Мунэвера, обеспокоенная долгим отсутствием «братика Анвара», взяв на руки Миляушу, вышла на улицу. Она заглянула в недостроенный желтый сруб, в котором обычно играл сынишка, обошла близлежащие переулки-закоулки, обегала все окрестные дворы — Анвара не было. Порасспрашивала у соседских ребятишек, выходило, что никто с ним сегодня не играл, никто его сегодня даже не видел.
И Мунэвера перепугалась, вспомнив, что в последнее время на улицах стало больше машин, глубоких, всюду нарытых ям; вот и недавно где-то рядом задавило маленького парнишку, а другой, рассказывали, упал в канаву, сломал ногу. В страшной тревоге, совершенно потеряв голову, она бросалась из конца в конец, бегала с зареванной дочкой на руках по деревенским улицам — нет, словно в воду канул мальчишка. Наконец, чувствуя, что уже изнемогает, решила отнести Миляушу к своей матери, а потом пойти в милицию. И все твердила по дороге: только бы ничего не случилось, только бы ничего не случилось...
Пробегая мимо дома Шавали Губайдуллина, Мунэвера мельком заглянула в раскрытые ворота и обомлела, подкосились ноги, едва не упала она, не расшибла дочку Миляушу. Не двигаясь, сглатывая набежавшие слезы, долго смотрела во двор Губайдуллина: там, на крылечке, сын ее Анвар, забыв все на свете, играл с Арсланом в камушки, хохотал, ловко обыгрывая неумелого дяденьку.
Миляуша, увидев Анвара, радостно загулькала, захлопала в ладоши, на ее голос обернулись сразу и братик, и смутившийся Арслан. Анвар, просыпав разноцветные камушки из подола задранной рубашонки, вскочил на ноги и подбежал к бессильно прислонившейся к столбу ворот, улыбающейся и заплаканной матери, крикнул, подпрыгивая и махая руками:
— Мам, мам! Это дяденька Алслан, видис?.. Мы с ним ноги мылом стилали, ух, здолово! А ноги все лавно глязные — а мы их келосином! Мам, я тепель с ним длузить буду, ладно, мам, ты не лугайся!..
Арслан, поднимаясь с крыльца, старательно отряхивал брюки, прятал в траве босые ноги, украдкой спихивал со ступенек горку мелких камушков, бросал на болтливого Анвара укоризненные взоры.
— Здравствуй... Мунэвера...
— Здравствуй, Арслан...
И молчание.
9
Вечером в избе Шавали собирались к столу. На почетном месте восседал глава семейства, крепкорукий хозяин, рядом с ним нахмуренная Файруза, ближе к двери, пряча под столом немытые руки, ерзал по лавке самый младший, озорник Габдулхайка. Время от времени он шмыгал облупленным, нежно-розовым на кончике носом; заметив же сердитый взгляд сестры Марзии, высовывал красный язык — дразнился.
А Марзия с восхищением смотрела на старшего брата. Все ей казалось хорошо в нем: то, как он себя свободно держит, и его нерушимое спокойствие, большие, сильные руки и задумчивое лицо. Она, как и Арслан, подпирала рукою белый, мягкий подбородок и делала на лице задумчивое выражение, устремляя глаза в одну, заранее выбранную точку. Сидеть так ей очень нравилось, только Габдулхайка, черт, не давал покою, показывал язык, строил страшные рожи. Она украдкой погрозила ему кулаком и вновь застыла, положив подбородок на руку и уставясь на коричневый большой сучок, выделяющийся на дощатом, чисто выскобленном столе. Арслан, заметив, как старательно подражавшая ему сестренка исподтишка грозила свинтусу Габдулхайке кулаком, ласково усмехнулся.
Тетка Магиша тем временем поставила на середину стола большую алюминиевую чашку, в которой исходила вкусным паром горячая и густая с большущими кусками мяса домашняя лапша. Поводя перед собой руками, она что-то забормотала, но, поймав косой, выпученный взгляд мужа («эт-та что еще за набожность вдруг?!»), заторопилась и стала разливать лапшу по тарелкам. Сегодня обычно сварливая и непокорная старуха помалкивала, знала: за столом, вокруг которого собралась вся семья, хозяин — старый Шавали, ему и говорить. Так же думал и сам Шавали-абзый, долго ждал он этого вот дня, аж истомился. Пора, давно пора взять семейные вожжи в свои крепкие еще руки, — будя! Погуляли резвые коняшки, пора их стреножить, на то он и хозяин, на то отец им.
— Ягез, житешегез![8] — строго и громко сказал он и покосился на старшего сына: как ему это нравится? Но тот, кажется, и не расслышал, нагнувшись под стол, шебуршал там какою-то бумагой. Шавали-абзый, уязвленный, открыл было рот, желая закатить сыну долгую отповедь, где говорилось бы и о хлебе насущном, и о хозяйственном духе, и, более всего, об уважении к родителю, который его, неслуха, родил, кормил да уму-разуму учил! Но Арслан перебил его на самом вздохе:
— Отец, я тут поллитровочку сообразил, как ты, не против? Давно не виделись... и дни все тяжелые, может полегче станет. Конечно, не было такого у нас в заведенье — со старшими выпивать. Ну, да помаленьку, на донышке, чтоб горе наше забылось. Давай, отец, выпьем.
Шавали-абзый, не раскрывая рта, затерянного в густых сивых зарослях усов и бороды, долго и значительно прочищал горло. Не очень-то ему пришлась по нраву этакая самостоятельность сына. Ишь, сопля зеленая, отцу и слова молвить не дает, сразу бутылью об стол хлопает, куды уже нам до этакой прыти! Но заругаться вслух Шавали-абзый все же не решился, подумалось ему, что крякнул он внушительно и грозно, должон его сын понять и сникнуть. За столом вдруг стало тихо, собралась было прыснуть Марзия, да Габдулхайка под столом крепко щипнул ее за ногу, и она сразу помокревшими глазами жалобно взглянула на старшего брата.
Арслан, почуяв недобрую эту тишину, тотчас разлил водку по стаканам и, подвинув один отцу, второй взял в недрогнувшую руку, одним духом опрокинул его и молча поставил на стол. Могучим мужиком вырос Арслан: не поморщился, не вздохнул, лишь раздул ноздри да вытер светлую капельку, застрявшую в уголке губ. Шавали-абзый изумленно воззрился на своего молодецкого сына, вспомнил свою молодость, сморгнул набежавшую слезу и дальше кобениться не стал, схватил стакан и тем же манером опрокинул его в рот, но закруглиться по-молодому не сумел — подавился, заперхал сухим лающим кашлем, и тетка Магиша, охнув, засуетилась вокруг него, тыча ему в руку жирный кусок мяса.
— Не в то горло пошла, проклятая, — смирно ворчал старик, размазывая по щеке громадным, черным, заскорузлым пальцем теперь уже обильно брызнувшие из глаз слезы.
Он вдруг захмелел и позабыл о пище; от Магиши, все подбиравшейся к нему с куском мяса, отмахивался, словно от надоедливой мухи; во хмелю же неожиданно подобрел и улыбался в густую бороду, произнося какие-то глупые ласковые слова, и даже в избытке чувств погладил застеснявшегося Габдулхайку по взъерошенной голове.
Эх, едрена-корень! На душе у Шавали сегодня праздник. Вот и он сидит на почетном месте, как самый что ни на есть уважаемый родитель. Да рази же скажет кто, глядя на это, будто родные дети его не почитают? Рази ж это не почет и уважение? Старик взглядывал на Арслана и ухмылялся: «Знает, подлец, с какого боку зайти, хитер!..» Но, переведя взгляд на Файрузу, он явственно вздрогнул — ожгли, обдали гневом непримиримые черные глаза. «Эк, уставилась... черт! Не ведает того, что у меня, может, сердце кровью изошло...» Навернулись на глаза сердитые теперь слезы, Шавали закусил губу, засопел и отвернулся, скрывая от детей свою слабость, но они заметили, удивленно переглянулись и замолчали.
Шавали-абзый перевел дыхание, подрожал крыльями вислого носа,.вздохнул еще и заговорил:
— Жизнь-то теперь к молодым переходит, да-а... Ну, от веку оно так положено, и обижаться на это не след. Насчет того, бывало, отец мой, покойник, сказывал: мы, мол, старики, уже повыдохлись, теперь, значит, вы, молодежь, будете клад по жизни искать. И лежит, мол, тот клад под агромаднейшим камнем, а чтобы камень-то откинуть мно-о-го пота пролить требоватся. Ну, сказывал, одним потом его, конечно, не возьмешь, тут, стало быть, особая хитрость своя сидит. Ежели наладишься к ему со сноровкой, да с головой, да с именем всевышнего, то камень тот отринется, и будет под ем бесценный клад. Во как закрутил! Ну, помаялись мы немало. Силушки не жалели, поту черного пролили невесть сколько — тяжел был камень, трудные времена. А клада все ж не сыскали. Оттого, стало быть, что хитрости не разумели, неученые были, темные. Вот ныне-то молодые повыучились, справляются и без аллаха: подымут камушек, а клад под ним не только что лежит, он, едрена-корень, фонтаном бьет! Да-а-а... Молодые теперь — хозяева жизни. Но вот точит меня одна мыслишка, грызет, и никакого от нее спасу. Ты, Арслангали, скажем, человек с образованием, и на заводе немало проработал — проталерият, особ статья. Вот ты скажи мне, деревне, только по чести, от проталериятской души: что же такое, к примеру, он нам дает, этот клад?
Шавали-абзый с превеликим вниманьем, словно решался важнейший жизненный вопрос, поворотился к Арслану и, взглядывая ему в глаза, ждал ответа, а когда Габдулхайка, хихикая, зашептал что-то Марзии, цыкнул на них так грозно, что парнишка чуть не слетел с лавки и побледнела испуганная девка.