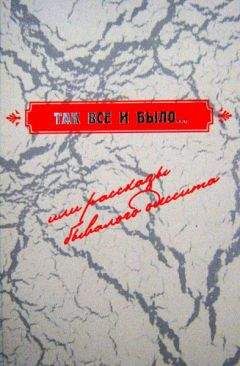Леонид Воробьев - Недометанный стог (рассказы и повести)
— Тут-то она тебе от ворот поворот и устроила, — вставляет Яков Николаевич.
— Подожди! Вот говорили, говорили — она и скажи: «А вы, оказывается, животноводом работаете». — «Да, отвечаю, свинарем». Она помямлила что-то и вроде для комплимента какого-то, что ли, говорит: «Кругозор, — слышь, — у вас очень широкий, читали много. Это хорошо. Я прямо думала…» Тут она и язык прикусила — поняла, что не туда поехала.
Генка резко повернулся на спину, сел, прикрыл одной рукой глаза, другой стал стряхивать песок с груди.
— Чуешь, дядя Яков! Она меня подхвалить хотела, а высказалось у нее, что на уме. Она думала, по разговору моему, что ее, скажем, наш главный инженер провожал, а вышло — свинарь. Я так ей и сказал: «И, говорю, профессией своей горжусь, не стесняюсь ее!» А ее, видишь, задело, что ее мыслишку разгадали, она рассердилась, решила подкольнуть: «Ну что ж, — иронически так замечает, — каждому — свое».
— Вот как? — с явной заинтересованностью вставил Яков Николаевич, начинавший, видимо, поддаваться влиянию Генкиного возбуждения, и тоже сел. — А ты что?
— Тут-то я ей и насыпал всякого… «Нет, говорю, не «каждому — свое», а каждому — все! Вот как у нас. Вы книг не меньше моего прочитали, библиотечный техникум окончили, приехали у нас культуру поднимать. А как вы будете культуру поднимать, когда вы к труду нашему неуважение высказываете? А ведь от труда и культура-то вся пошла. Знаете, наверное, что Америка существует? Там бездельники в чести, а люди труда на втором плане. А вы не в Америке, а у нас живете. И откуда у нас такое берется?!» В общем, наговорил я ей, она — мне, и разошлись мы в середине вальса.
— Ну, ну, — одобрительно поддержал Яков Николаевич и вдруг добавил прежним безмятежным тоном: — А кипятишься-то ты что? Коли знаешь, что прав, чего в бутылку лезешь?
— Не лезу, — буркнул Генка и лег, но Яков Николаевич неожиданно быстро проговорил:
— Трусы надень. И мне кинь. Никак на той стороне женщина к реке идет.
На противоположный берег Ломенги, круто падавший к воде, вышла девушка в ярком, цветном платье. Она осторожно спустилась по обрывистому берегу, поправила обеими руками темно-русые подвитые волосы, наклонилась и стала расстегивать босоножки.
— Купаться собирается, — определил Яков Николаевич. — Погоди… Легка на помине. Наша ведь библиотекарша новая. Узнал?
— Давно узнал, — бормотнул Генка и лег, демонстративно отвернувшись, подложив под голову предплечье руки. Яков Николаевич продолжал сидеть, наблюдая за девушкой.
— Разделась, — комментировал он ее действия. — Сейчас полезет. Смотри-ка: платье и туфлишки свои забирает. Кажись, плыть сюда решила с одеждой. Вот-вот. Наверно, плавает хорошо: здесь, у косы, трудновато с одеждой плыть — на одной ведь руке тянуть надо. Полезла. Поди, в Лыково наладилась.
— Может, в Спирино, — возразил Генка.
— Может, и в Спирино. Сейчас до ямы доберется. Поглядим, каково плавает.
Генка не выдержал, обернулся, сел.
Девушка отошла от берега уже метров на тридцать. Пока было совсем мелко, чуть выше колена. Быстрое течение накручивало белые бурунчики у полных ее ног. Девушка шла уверенно, с легкими всплесками прорезая ногами струю.
— Вот туточки и ямина, — рассуждал Яков Николаевич. — Одежонку в правую руку забрала: значит, на левом боку плавает. Ой! Чего это она?!
Девушка сделала еще несколько шагов по мелководью и оступилась с косы в глубину. Но вместо того чтобы плыть, она погрузилась в воду с головой. Через секунду она вынырнула, как-то нелепо ударила по воде обеими руками, платье легло на поднятую волну цветастым пятном. И сразу же раздался дрожащий крик:
— Помоги-и-те-е!
— Бежим! — гаркнул Яков Николаевич, срываясь с места. Но Генка опередил и его возглас, и самого кузнеца. Метеором мелькнул он к воде, плюхнулся в речную гладь и пошел отмахивать быстрые саженка. Однако недаром Яков Николаевич слыл одним из лучших пловцов колхоза. Он догнал Генку и прокричал:
— Одежу выронила! За одежой ныряй! Один уволоку.
Девушку сносило течением. Она выпустила из руки платье и босоножки и отчаянно барахталась, крича и захлебываясь.
Неизвестно, надолго ли хватило бы ей сил держаться на воде, но тут к ней подоспел кузнец. Обхватив одной рукой ее тело, он гребанул другой рукой и мощно заработал ногами, буксируя тонущую на боку. И тогда прекратились крики девушки, но зато раздался придушенный голос Якова Николаевича:
— Шею отпусти! Не цапайся, говорю! Утоплю, если хвататься будешь! Ах, ты… черт тебя понеси!
Подплыл Генка, хлопая по воде рукой, в которой были зажаты босоножки и какая-то тряпка. Помог кузнецу тащить девушку.
Она теперь сообразила, что от нее требуется, и не шевелила ни рукой, ни ногой.
Когда почувствовали дно, спасенную поставили на ноги. Она настолько потеряла представление обо всем окружающем, что тыкалась в стороны, чуть не повернула и не пошла обратно, на глубину. Пришлось взять ее за руки и вывести на берег.
На берегу она стояла пошатываясь, прижав руки к лифчику. Ее мутило. Постепенно она приходила в себя.
Яков Николаевич взял платье из рук Генки. Стал выжимать. Сказал:
— Ловко ты. И туфлишки отыскал.
— Кабы не связаны были, не нашел бы, — хмуро отозвался Генка.
— Спасибо, — вдруг произнесла девушка, силясь улыбнуться. — Большое спасибо!
— На здоровье, — сказал Яков Николаевич, протягивая ей выжатое платье. — Что же вы? Не умеете плавать, а полезли?
— Я думала — тут мелко, — виновато ответила она, окончательно приходя в себя. — Сначала — ниже колена.
— Не знаешь броду… — назидательно проговорил Яков Николаевич. — Слыхали ведь?
— Как уж вас благодарить! — взволнованно начала она, словно только в этот момент полностью осознавшая все происшедшее. — Прямо не могу…
— Чего там, — перебил Яков Николаевич, отмахиваясь рукой. — У нас на реке такое дело чуть не каждый день. Серьезная река… Так чего же, ты говоришь, — обратился он к Генке, — председатель тебе ответил?
— Д-да чего, — в момент понял прием продолжения прерванного разговора и подхватил Генка. — «Сейчас, говорит, некогда этим заниматься. Сам знаешь, время летнее, каждый человек на учете».
Библиотекарша недоуменно взглянула на них, поглядела на каждого и, поняв, что они всерьез заняты каким-то деловым разговором и определенно не обращают на нее ни малейшего внимания, потихоньку пошла в сторону кустов.
Генка и Яков Николаевич, продолжая изобретенную наспех беседу, следили за тем, как она, все еще чуть покачиваясь, уходила к кустам, оставляя на плотном песке маленькие следы. Руку с босоножками и платьем она отставила в сторону, а другой уже привычно встряхивала мокрые волосы. Генка с кузнецом, смотрели вслед до тех пор, пока она не скрылась за кустами. Затем они улеглись на песок.
— Красивая, — отметил Яков Николаевич. — Я те дам.
— А брови смылись, — высказал Генка свое. — Я думал — у нее настоящие… Да и глупости такие говорит…
— Ты-то сразу умным сделался, — неожиданно едко бросил кузнец. — Поумнеет со временем. Обожди.
Девушка показалась из-за кустов уже в платье, туго обтянувшем ее фигуру. Босоножки она по-прежнему держала в руке. Она вышла на луговую тропку, постояла несколько секунд, точно колебалась перед принятием какого-то решения, потом двинулась в сторону Лыкова. Сначала шла медленно, чуть наклонив голову, как бы раздумывая, но после убыстрила шаг и стала в такт ходьбе помахивать босоножками.
Вот она уже выходит на дальний цветущий бугор, делается на глазах все меньше. Генка то взглянет ей вслед, то опустит голову на предплечье. Яков Николаевич лежит на боку и попеременно поглядывает на Генку и на уходящую. Немного погодя, как о чем-то незначащем начинает:
— А крепко она тебе от ворот поворот устроила. А?
— Отвяжись! — режет Генка и окончательно утыкается в предплечье.
Тишина. Теплынь. Покалывает прокаленный песок. Воздух качается и качается над перекатом. Пора идти на работу.
Ночная молитва
Почти весь выходной день молодой колхозный агроном Михаил Шишов пробродил с ружьем по приречным перелескам. Ушел он из дому в одиннадцать, а сейчас уже темнело. Два раза Михаил стрелял по рябкам, один раз по тетереву, но ничего не убил. И теперь, возвращаясь домой, был он голоден и измучен, как собака после длинного гона. А завтра надо было идти в отдаленную бригаду, и настроение у Михаила сложилось к вечеру так себе.
Продравшись сквозь дикое переплетение молодого ольховника и березняка, он выбрался на льняное поле с черневшими шеренгами бабок и полосами-дорожками вытеребленного, но еще не связанного льна. Перешел поле, очутился на большой дороге и двинулся к Ванькину, над темной грудой домишек которого бледным языком свечи стояла первая нежно-розовая звезда.