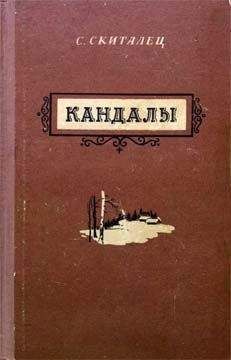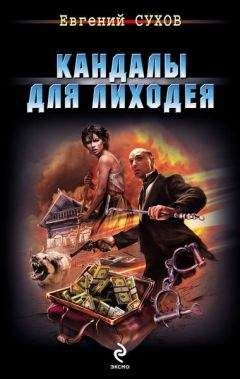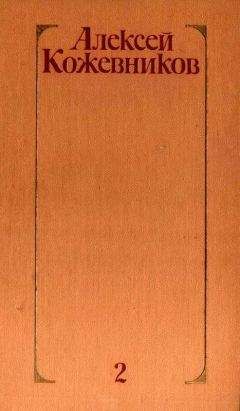Николай Ляшко - Живая вода. Советский рассказ 20-х годов
— Юнкерской школы при Сенате аудитор, — и приказал денщику постилать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штиблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись, наконец, молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул.
Тогда, наконец, поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил.
Аудитор равнодушно возразил, что напротив, все по правилам, что он действует по части второй, как бывший Синюхаев — «яко же умре», и чтоб поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам бы надел мундир, негодный для носки.
Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам бывший Синюхаев может это сделать «не так».
Потом бывший Синюхаев надел мундир, не годный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки, с угловатыми пальцами, форменные. Перчатки потерять — к бесчестью, слыхал он. В перчатках поручик, каков он ни был, все поручик. Поэтому, натянув перчатки, бывший Синюхаев повернулся и пошел прочь.
Всю ночь он пробродил по улицам С.-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он устал и сел наземь у какого-то дома. Он продремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам.
Вскоре он вышел за черту города. Сонный торшрейбер[8] у шлагбаума рассеянно записал его фамилию.
Больше он не возвратился в казармы.
11Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче. У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кой-кому, что человек, кричавший «караул», найден.
Но это произвело странное действие на женской половине дворца.
Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, были пристроены с фаса два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом.
Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло, а однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда, со съехавшим набок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля.
Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины.
И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул» найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в обморок.
Она была, как Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок.
При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча, трещали шелка, и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода.
Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола.
Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами.
Итак, одна из них рухнула в краткий обморок.
Поднятая с полу своей покровительницей и пробудившись от бесчувствия, она рассказала: у нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером. Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и вдруг, посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а может быть и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки.
Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто омерзел ей, и жалобно закричал: «караул».
В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся.
Больше она его не видела, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии.
Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь.
Нелидова стала думать.
Ее случай был на ущербе, и хоть она себе в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать.
С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Мелецкому.
Она так и сделала и послала к нему камер-лакея с запиской.
Дюжий камер-лакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Мелецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец «Быстрой реченьки» и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великий хитрец и, глядя вверх на плечистого камер-лакея, сказал:
— Скажи, чтоб не было беспокойства. Пусть ждут. Все сие решится.
Но сам он немного трусил, вовсе не зная, как все это решится, и когда в дверь сунулась к нему одна из его юных пастушек, которую раньше звали Авдотьей, а теперь Селименою, он свирепо повел бровями.
Дворня Юрия Александровича состояла по большей части из юных пастушек.
12Часовые шли и шли.
От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости, они шли прямо и с опаскою посматривали на важное пространство, шедшее между ними.
Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено.
На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный и фигуры не имеет, и смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение.
Ко второму — большому — посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый.
Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою: «он» или «оно».
Так они зашли уже в глубь Российской империи, по той же прямой и протоптанной Владимирской дороге.
И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось: то это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета.
13Между тем по той же Владимирской дороге шел за ними вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости важный приказ.
Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий сказал: ждать, и в этом не ошибся.
Потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление.
Император поворачивался спиною к звероподобным садовым кустам и, побродив в пустоте, обращался к изящному чувству Камерона.
Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов матери, он запрятал их в имения, где они отсиживались. Он должен был так сделать. И что же? Вокруг образовалась большая пустота.
Он вывесил ящик для жалоб и писем перед своим замком, потому что ведь он, а не кто другой, был отцом отечества. Сначала ящик пустовал, — и это его огорчало, потому что отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли: батька курносый, и угрожали.
Он посмотрел тогда в зеркало.
— Курнос, сударики, точно курнос, — прохрипел он и велел ящик снять.
Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии для его проезда новые мосты. Путешествие было не маменькино: все должно быть так, как есть, а не принаряжено. Но отечество молчало. На Волге собрались было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чисто воды.
Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам:
— Вот пью вашу воду. Что глазеете?
И вокруг стало пусто.
Больше в путешествие он не ездил и вместо ящика поставил на каждом форпосте крепких часовых, но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться.
Кругом была измена и пустота.
Он нашел секрет, как избыть их, — и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случилось, что исполнительная власть путала все канцелярии, и поэтому были: сомнительная измена, пустота и лукавое подчинение. Он казался сам себе случайным пловцом, воздымающим среди ярых волн пустые руки, — некогда он видел такую гравюру.
А между тем он был единственный после долгих лет законный самодержец.
И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы мертвого. Он вырыл из могилы убитого вилкою немецкого недоумка, который считался его отцом, и поставил гроб рядом с гробом похитительницы престола. Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил как ежеминутно приговоренный к казни.