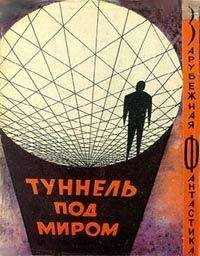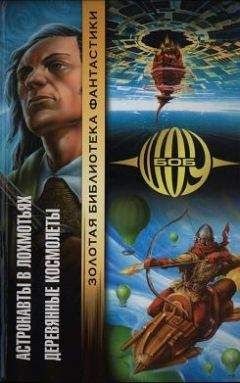Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
Мы возвращались на машине, пели, и ветки яблонь ударяли нас по голове… Возле пруда девчонки долго отмывали руки и ноги. Тот день был весь полон какой-то пронзительной доброты. Не хотелось расставаться. Ах, как сближают такие мгновения! В школе мы — сама сдержанность, сплошные белые воротнички… Тот отличник, этот отстающий… А теперь все это рухнуло, рассыпалось в прах, как яичная скорлупа… Я все еще вижу руки Нийоле, вижу, как она моет картошку, как склоняется над прудом… Не было здесь ни тех, кто впереди, ни тех, кто позади, никаких знаков отличия. Может быть поэтому и Альбинасу, и Марите работа не понравилась: здесь они оказались в тени других.
Она живет в каждой моей мысли — живет ее голос, живут ее глаза, шелест ее платья, смех, я все время слышу ее, вижу и не могу отделаться от дурацких мечтаний. Я же даже ее пальчика не стою. Потому, наверное, и прячу изо всех сил свои чувства.
— Великий актер, — говорит Альбинас. Он насквозь меня видит…».
Я СЛЫШУ ТЕБЯ, ДУБ-ИСПОЛИН
Лунный свет, стрекот кузнечиков, соловьи… Но скоро все вокруг умолкает, потому что с запада надвигаются грозовые тучи. Как раскаленные глыбы скал, они перекатываются друг через друга. В воздухе накопились озон, опасность и тоска. Далеко, у самого горизонта, небо нет-нет да и сверкнет тусклым багрянцем. Молнии тихо чиркают по небу и гаснут. После каждой вспышки грохочут колеса Перуна, полосуют небосвод белые кнуты. Вот только что сверкнула молния, словно огромными растопыренными пальцами объемля все грозовое небо: видны каждый выступ облаков, каждая их впадина, каждое движение. При свете гаснущей молнии успеваешь увидеть и лица. Одно — чернявое, грубо вытесанное, округлое. Это Римантас. Второе — продолговатое, с большими выразительными глазами. Это Юозас. Лицо третьего уже утопает во тьме. Из темени, из протяжного шелеста леса слышен его голос. Он торопится что-то сказать и боится, что не успеет: в любую минуту может грянуть гроза; этот голос заглушает раскалывающийся гром.
Трудно понять, что звучит в голосе Альбинаса, — то ли какая-то обида, то ли предостережение или тайна, которую он долго и упрямо скрывает от всех; Альбинас говорит не столько с ними, с присутствующими тут своими друзьями, сколько с кем-то далеким, более мудрым и могущественным, который один только его, Альбинаса, понимает. Выслушает тот, далекий и всесильный, эти его сетования и кому-то о нем, Альбинасе Малдонисе, даровитом парне из Ужпялькяй, доложит. И куда-то его позовут. Где-то его уже ждут с распростертыми объятьями. Кто знает, может, там даже и слава ему уготована. На одной стороне — отчий дом, родное небо, поля, убогие проселки детства, на другой — туманный небосвод на востоке, другие, более широкие, может даже асфальтированные дороги и города… Долгий, видать, очень долгий предстоит ему путь. И в душе Альбинас клянется, что все, что он тут, на родине, испытал и увидел, он никогда не забудет. Но кое-кто здесь осмеливается называть его отступником, отщепенцем. В газете он описал свой спор с отцом по поводу религии; писал о хищениях в колхозе, о прокладке новой дороги, о строительстве клуба-читальни, даже о пропойце, заведующем старой библиотекой. В этих своих заметках он и про Казимераса с Константасом упоминал, и из самых лучших побуждений некоторые их мысли там процитировал.
Но Альбинаса уже порядком развратили похвалы. Пристальные глаза ужпялькяйцев, которые на старости лет только и делают, что смотрят, только тем и занимаются, что сортируют, сопоставляют, накапливают всякие наблюдения, давно заметили, что он придает слишком большое значение своей персоне, заважничал, даже не слышит, что ему говорят… Юозас, дескать, другой: он и более человечный и с каждым при встрече заговорит…
Снова вспыхнула молния, и теперь друзья высветились, словно какой-то скульптурный ансамбль: впереди стоял Альбинас; подавшись вперед, к нему почти прильнул Юозас; а чуть дальше от них держался Римантас. Возможно, они немного позировали перед кем-то невидимым, здесь подошла бы и темная, развевающаяся по ветру одежда, которую порывы ветра просто рвут в клочья, потому что что-то бурное и тревожное было в их душах. На всех лицах лежала печать восторга и экстаза, которые на короткий миг сблизили их. Потом снова начнется привычное соперничество. Альбинасу хочется всюду быть первым. Того, кто попытается его обскакать, он отринет и высмеет. Он хочет, чтобы при его появлении громко и внушительно произносили его фамилию.
Должно быть, его и впрямь ждут высокие дворцы с каменными лестницами. Множество людей будет там дожидаться приема у таких, как он, прижимаясь к старым статуям и колоннам. И не каждый из них удостоится чести войти внутрь.
— Ты в этом году в вуз не будешь поступать? — спрашивает Римантас у Юозаса.
— Нет. Хочу еще тут пожить, поработать, осмотреться… Может, через годик-другой…
Голос его чуть дрожит. Альбинас усмехается.
— А я — в мореходку, потом — в море-океан, — Римантас окидывает взглядом бескрайний грозовой небосвод. Там, на западе, его море: рушатся скалы и падают в пучину, терпят крушение корабли, и их обломки летят в пропасть, сияет объятый пожарами небосвод и кипит-клокочет раскаленная стихия. Потом воцаряется такая тишина, что слышно, как журчит фонтан Левиафана, где-то вроде бы поют сирены, и стоит на палубе капитан, приложив к зорким глазам бинокль, толпятся матросы в ожидании его команды. Пути аргонавтов. Римантас увидит берега Гибралтара, переплывет Баренцево море, обогнет мыс Горн, перед ним сверкнут башни Константинополя, и эхо его шагов взмоет над тысячелетними улицами Стамбула или Афин, выложенными почерневшим булыжником. Далеко-далеко уплывет он отсюда, из этого края со стожками сена, с низким порогом отцовской избы, с узеньким ручеечком, заросшим водорослями.
— Ты о чем задумался?
Юозас молчит. Он вдруг ни с того ни с сего вспомнил, как однажды — дело было в середине зимы — его в заводи охватило такое чувство, словно он очутился на Северном полюсе; он бросился к двоюродному брату Альгимантасу и давай говорить, пытаясь заглушить страх.
Спрашивают Альбинаса, куда он собирается поступать.
— Я уже вам говорил, — отвечает тот.
Пройдет немного времени, и будет Альбинас вышагивать по городским улицам, ходить на концерты и в библиотеки, но там частенько у него перед глазами будут возникать вдруг высокие утесы, стремительные броды его детства; во дворе будет стоять мать, будет ругаться отец, а он, маленький мальчик с неровно обстриженными волосами, будет читать старую, пожелтевшую книгу. Чего, спрашивается, этот оголец искал, на что надеялся? — такими вопросами будет он мучать себя в эти мгновения. И чистым, и прозрачным будет этот пласт воспоминаний, сквозь который он будет смотреть на мир.
Но случится это чуть позже, когда он пройдет уже через все двери, когда убедится, что никто его там, за этими дверьми, особенно не ждал. Он будет в сердцах хлопать этими дверьми, злиться в надежде найти свою, единственную, правду. Он навсегда останется ребенком, ищущим таких же ласковых рук, которые так радушно помахали ему еще тогда, когда, совсем маленький, он сидел на коленях у своей матери. Он будет требовать ласки. Во многих местах его встретят с усмешкой. Люди будут пожимать плечами в недоумении — чего он ищет, чего хочет? Он будет чувствовать себя соблазненным и обманутым, ибо ему нигде не удастся отыскать следы того Анонима, мысль о котором насквозь пронзила всю его жизнь, и работу Анонима, который его когда-то звал, но не соизволил дать своего точного адреса.
Примерно такими словами Юозас обрисовал одиссею Альбинаса в городе.
— А тебя, Юзук, сразу же заведующим фермой назначат, — сказал оскорбленный Альбинас.
Нет, он не думает, что сразу назначат, хотя чем черт не шутит, пытаясь совладать с собой, говорит Юозас, но в конце концов не выдерживает и язвительно добавляет:
— А ты приедешь на ферму с блокнотиком и очеркишко о заведующем накатаешь.
— А ты погоди радоваться, о таких, как ты, не накатаю.
— Ясное дело. Поинтереснее материальчик найдешь. Тебе кажется, что в другом месте тебя ждет что-то необычное, то, чего здесь ты и замечать не хочешь. Чепуха.
— Ааа, — отмахивается Альбинас. Его словно ветром подхватило, и неизвестно еще куда унесет.
Юозасу что-то не нравится в поведении друга, в его мыслях, ему хочется о чем-то поспорить, что-то опровергнуть, но он сам не знает, как это сделать. Допустим, он останется здесь, в деревне, будет честно и хорошо трудиться, но захочет ли с ним водить дружбу его бывший друг Альбинас, обожающий разглагольствовать о работе, о ее смысле, увидит ли он какие-нибудь преимущества здешней жизни? Нет. Юозас Даукинтис перестанет для него существовать. Впрочем, зачем он так морочит себе голову из-за этого Альбинаса? Кто для него Альбинас? Пусть идет своей дорогой.