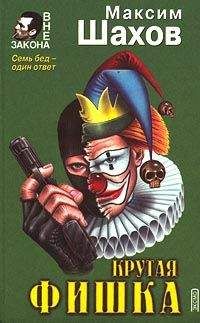Виктор Устьянцев - Крутая волна
— Ты чего? — подплывая, спросила Пелагея.
— Просто так. Хорошо!
— Вон на острову песочек мягонький, может, погреемся на солнышке?
Островок был небольшой, с изветренными кустами посередине, с желтым ожерельем песка по окружью. Лежа на животе и глядя на валко разгуливавших по другому берегу гусей, Пелагея рассказывала:
— Вот кому тут раздольно, так это гусям и уткам. Раньше тут полсела Гусевыми да Уткиными прозывались, это значит — у кого какой птицы было больше в хозяйстве. Ну да те времена уже откатились, война все хозяйство порушила, да и в село из других мест много кого понаехало. Особливо хохлов, от фронту бежавших. Ой, гляди, плывет кто‑то.
Чуть повыше острова вертко переплывала реку плоскодонная лодка, в ней было трое: двое торопливо махали веслами, третий сидел на корме. Вот лодка ткнулась в положистый берег, гребцы бросили весла, выскочили, ухватились за цепь в носу лодки и стали вытягивать ее на берег. Потом выскочил и третий, принялся помогать им, втроем они быстро утянули лодку в кусты и больше не появлялись.
— Кто бы это? — гадала Пелагея. — Вроде как не нашенские.
— Бандиты, — сказала Ирина. По рыжим волосам и развалистой походке она узнала Туза, потом догадалась, что на корме сидел Хлюст. Третьего она не признала. — Это Хлюст со своим приятелем.
— Какой Хлюст? — не поняла Пелагея.
— Ну тот, который себя истинным освободителем нарек. А друг его, который рыжий, — Туз, по прежней воровской кличке. Третьего я не знаю.
— Может, кто из наших в перевозчики нанялся? Да нет, не похоже. Постой‑ка, а ведь наши‑то их на другом берегу шарят! Надо бы им сообщить. — Пелагея поднялась было, но Ирина удержала ее:
— Погодите. А вдруг они следят, не видел ли их кто? Они‑то нас не заметили, вот пусть и думают, что и мы их тоже. Тогда они без опаски пойдут.
— Пойти‑то пойдут, да в какую сторону? — возразила Пелагея. — Надо поскорее нашим сказать, пока далеко не ушли.
Все‑таки они подождали еще минут десять, потом переплыли к бане, быстро оделись и побежали в штаб. Но там никого не оказалось, во дворе под яблоней с подвешенной на ней зыбкой кормила грудью ребенка темноволосая женщина с узким изможденным лицом, вдоль и поперек исхлестанным преждевременными морщинами. Выслушав Пелагею, она указала на соседний двор:
— Вон у Лукерьи ишо двое красных осталось, да каки из них вояки, один страм.
И верно, в соседнем дворе спали в холодке, подложив под головы седла, двое пожилых красноармейцев, причем один их них был одноногий; деревянный кол, заменявший ему другую ногу, опутанный сыромятными ремнями, которыми он, привязывался, лежал чуть поодаль от него и был испачкан в навозе.
Спросонья они долго не понимали, что от них хотят, наконец безногий сказал:
— Ты, Кузьма, скачи — ко до наших, оне вон в ту сторону уматали. Счас, должно, возле Мачи рышшут.
Кузьма нашарил на траве островерхий шлем, нахлобучил его на лысину, покряхтев, поднялся на ноги, подхватил под мышку седло и, гремя стременами, пошел к стоявшему за избой сараю. Вскоре он вывел из него пегой масти коня, тоже старого, тоже еще не проснувшегося, ловко оседлал. Проверив тугость подседельника, глянул орлисто на Ирину с Пелагеей и не по летам ловко взметнулся в седло, приосанился, строго наказав:
— Ну, вы тут…
Должно быть почувствовав ловкость седока, конь тоже моложаво всхрапнул и взял с места. Когда уселась поднятая его копытами пыль, одноногий сказал:
— Дак вы, бабоньки, про вашу заметку не тренькайте никому. А то как бы не спугнуть бандитов‑то. У их, может, тут свой глаз есть.
А штобы он вас на свою заметку не уделил, возьмите‑ка для отводнова манёвру вон там посуду немытую.
Сложив в три корзины немытые оловянные миски и ложки, Пелагея с Ириной, нарочно гремя ими чуть ли не на все село, потащили их к Пелагее, раздули огонь в загнетке, затопили печь, нагрели в двух чугунах воды и до пригона коровьего стада громыхали в подворье посудой, прислушиваясь к тому, что делается в селе, ожидая возвращения эскадрона. Но не успели они развесить для просушки на кольях плетня последние миски, как обвально грохнул за перелеском гром, потемневшее небо извилисто и ослепительно прочертила молния, после нее долго стояла душная, угнетающая тишина, и Пелагея встревоженно сказала:
— Створки надо захлопнуть да вьюшку в печи закрыть, а то молния на сквозняк горазда, заскочит в избу, спалит начисто.
Едва они закрыли окна, как хлынул слепой ливень, вспенивая султанами не успевающую уйти в землю воду, шебарша по крыше, обливисто прошел по ней, поутих и, оставив после себя громкую крупную капель, свалился в лесок, успокаивающе зашелестевший листвой, тут же припал умиротворенно и сонно.
Пелагея, распахнув створки, облегченно перекрестилась:
— Пронесло, слава те господи! А воздух‑то, как колодезна вода, сделался. Понюхай — ко.
Ирина подошла к окну, на нее охладисто и пахуче обрушился хлынувший в горницу воздух, и она подумала: «Господи, хорошо‑то как! Может, никуда и не надо отсюда уезжать!»
Но тут сонную тишину разорвал звонкий выстрел, и кто‑то разорванно же закричал:
— По… врагам революции… Пли!
Дружно хрястнул залп винтовок, увял в про- волгших от дождя ветках деревьев, и в наступившей тревожной тишине особенно отчетливо прозвучал шепот Пелагеи:
— Господи, прости грехи наши…
Пелагея, предусмотрительно подняв юбку, стояла округлыми голыми коленями на выскобленном ножом и протертым чистым вехтем полу, молилась — не шибко истово, больше для порядку:
— Пронеси беду мимо нас…
И тут Ирина вдруг поняла, почему народ перестал верить в бога, в царскую власть, во все, чем столетиями держали его в повиновении и забитости, чему Он молился уже многие десятилетия без веры, а лишь по привычке или по родительскому наказу, чем еще не научился пренебрегать. «А ведь они мудрее нас, мы лишь сор, который несет река жизни по поверхности, а они — само течение, его мускулы…»
Женское любопытство сильнее страха, и как ни боялась Ирина с Пелагеей, а пошли в ту сторону, откуда стреляли. Еще кружили над часовенкой Сельского погоста галки, сполошливо и громко обсуждая встревожившее их событие. В дальнем от часовенки углу копошились люди, Пелагея повела Ирину туда, и, прежде чем они пробрались сквозь толпу серых, пропахших конским и человеческим потом шинелей, до Ирины обрывисто Донеслись тихие слова:
— Он только один день и побыл с нами. Я даже не успел узнать его отчества, потому как он не успел своим отчеством обозначиться. Но он принадлежит нашему отечеству, он такой же боец за его светлое будущее, как и мы с вами… — Тут Ирина оказалась вдруг в центре круга, охватившего свежеоструганный, с ошметками корья гроб, увидела спокойное, с застывшей синевой лицо Ивана Залетова, красного начальника, стоявшего над его изголовьем, сжимая в кулаке кожаную кепку, и, уже падая, услыхала приглушенно, как сквозь вату:
— …Мы не забудем его…
Очнулась она уже за литой кладбищенской оградой, от того же запаха конского и человеческого пота, он почему‑то удивил ее, лишь потом, когда она увидела черно блестевшую кожаную куртку и смятую в руке так же темно блестевшую фуражку, вспомнила, что было до этого, попыталась подняться.
— Вроде оклемалась. — Над ней склонилось и табачно дыхнуло в нее чье‑то волосатое лицо с попорченными трахомой глазами и радостно повторило: — Ей — бо, оклемалась!
Тут же табачно — бородатое лицо заменила Пелагея и певуче проголосила:
— Ай и вправду оклемалась! — На щеку упала крупная капля, Ирина слизнула ее языком и, почувствовав соленость, догадалась, что это Пелагеина слеза, обмягченно поблагодарила:
— Спасибо.
Должно быть, оттого, что она благодарно прикрыла веки, Пелагея встревожилась:
— Да ты чего, девонька?
И от этого слова, наверное, происходящего от «дева», Ирина окончательно взбодрилась, села и увидела, что ее несут, ухватившись за полы и рукава серой шинели. «Так вот почему пахло потом…» — мелькнула догадка. Ирина хотела понять, чья именно эта шинель, но мысли ее оборвал по- строжавший голос красного начальника:
— Этих‑то тоже надо бы закопать, а то раз- воняются, да и мухи от них заразу понесут…
Ирина проследила за его взглядом и увидела лежавшего пообочь Хлюста. Он лежал навзничь, чуть подогнув левую ногу и откинув голову на кочку, будто пьяный извозчик на откидной верх пролетки, рот был чуть приоткрыт и тускло сверкал золотым зубом, а высветленные и уже остекленевшие глаза были неподвижно и безучастно устремлены в небо, очищавшееся от сваливавшихся по окружью за темневшуюся землю опавших дождем туч, неясно и тревожно мерцавшее от всполохов ушедшей далеко грозы. Рядом с ним лежал, уткнувшись в землю, Туз. Ирина почувствовала одновременно и страх, и облегчение оттого, что теперь она уже не будет бояться этих страшных людей, и совсем неожиданно для себя пожалела Хлюста: «А ведь и он чего‑то хотел в этом непонятном мире и, может, не был понят». Но тут же остановила свою жалость, вспомнив и налет на поезд, и смерть Петра, и липкую, приторную об- волакиваемость Хлюста, и вдруг сказала в кожаную спину красного командира: