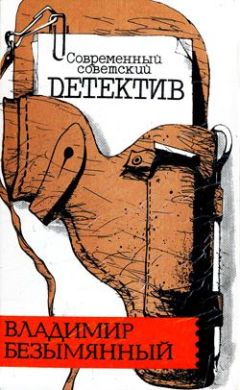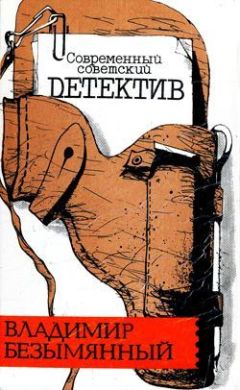Анатолий Ананьев - Версты любви
II
Из Гольцов я уезжал, когда было уже совсем темно. Забравшись в кузов какого-то направлявшегося порожняком в Калинковичи грузовика, я стоял возле кабины, прислонясь к ней спиной, и смотрел на удалявшуюся в ночи с неяркими и редкими огоньками деревню. Редкими потому, что окна многих изб были закрыты ставнями. Я уезжал с таким чувством, словно покидал не Гольцы, а Долгушино, и все было здесь близко и дорого мне; с грустью вглядывался я в темноту, и чем сильнее набирала скорость машина, тем мрачнее и тревожнее становилось на душе. Я не упрекал себя, что не поинтересовался делами колхоза, хотя никогда прежде не случалось, чтобы должностные заботы вот так, вдруг, отходили на второй план; я думал о жизни Евгения Ивановича и о своей, и грустно мне было именно потому, что я все время только лишь стремился к добру, лишь хотел видеть людей добрыми (добрыми по отношению ко мне), тогда как Евгений Иванович делал добро, и делал незаметно, не выдвигая себя, и эта его как будто незаметная и трудная жизнь получила признание («Не только мальчишек, нет! — восклицал я. — А всех, всей деревни!»); я видел, что жизнь Евгения Ивановича была наполнена смыслом, а моя (я насмехался теперь над тем, как бойко и решительно осуждал, в сущности, Евгения Ивановича, когда мысленно рассказывал ему о себе) — пустой, обесцеленной. «А ведь тянуло в Долгушино, — думал я. — И надо было подчиниться чувству, поехать; поехать еще и еще, и... кто знает, какой видимый след остался бы после меня, и ребятишки играли бы, может быть, в агронома Пономарева, как здесь в Гольцах, в лейтенанта Федосова». Я не заметил, как за поворотом, за подступившим к шоссе лесом скрылись последние огоньки утонувших в ночи Гольцов; густой сумрак, лишь впереди рассекаемый лучами фар, окружал мчавшуюся машину, но я не замечал и этого сумрака и не слышал, как скрипели и позвякивали в пазах рассохшиеся борта деревянного кузова трехтонки; под тяжестью наседавших дум — да я и не противился и даже не пытался прервать их (может быть, именно потому, что это было не в моих силах) — так же, как две с лишним недели назад, когда лежал в гостинице рядом с Евгением Ивановичем, весь как бы снова переходил во власть давно пережитых, и как мне казалось, забытых волнений, и в ночной черноте, чем пристальнее вглядывался в нее, тем будто яснее различал захлестанные осенними дождями взгорья с золотою и слезящеюся стерней, те самые убранные и уходящие на покой и зиму хлебные поля, по которым бродил когда-то в жестком брезентовом плаще и сапогах, накинув капюшон на голову, и чувство силы, добра и сознание того, что есть возможность применить эту силу и одарить добротою людей, отбрасывали меня назад, в молодость, когда жизнь только открывала свои казавшиеся приветливыми двери, и я с удивлением и доверчивостью смотрел на мир и людей. То состояние и приятно и тяжело было снова ощущать в себе. Я как будто, как делал, бывало, там, на Долгушинских взгорьях, откидывал капюшон и видел сиротливо приютившуюся за сеткой дождя у реки деревушку, и так же, как эта деревушка выглядела затерявшимся островком среди распаханных черных взгорий, так и я казался себе затерявшимся человечком среди людской нешумной и утонувшей в ночи жизни; она, эта жизнь, была сама по себе, со своими заботами, болью и радостью, будто даже непонятная и недоступная мне, моя же — сама по себе и тоже будто недоступная и непонятная другим, и я чувствовал себя одиноким и подавленным в кузове несшейся сейчас по шоссе на Калинковичи машине. Это тревожное состояние продолжалось и потом, когда я уже лежал в гостинице, завернувшись в одеяло и погасив свет; о чем бы я ни начинал думать, перед глазами неизменно возникали то Долгушино, то Красная До́линка, где на лунном дворе когда-то я встретил старого Моштакова с Кузьмой; и Андрей Николаевич в белой нательной рубашке и кальсонах, как он стоял на крыльце возле остекленной веранды, и Федор Федорович с женою и тремя, как и отец, ушастыми и в одинаковых платьицах дочерьми, и Пелагея Карповна, и маленькая веснушчатая Наташа в косынке, какой я увидел ее тогда, и эта Наташа, какой стала теперь, провожающая своих дочерей Валю и Ларочку по утрам в школу, и серый холмик с крестом, где похоронена Пелагея Карповна (я никогда не был на ее могиле, но хорошо представлял по рассказу жены), и могила ее двоюродной сестры, Надежды Павловны, худенькой, морщинистой, почти высохшей старушонки, — все-все, перемежаясь, возникло и гасло, создавая картину прожитой обесцеленно, как я уже говорил, жизни. Я почувствовал, будто что-то нарушилось во мне, что прежде составляло покой и уверенность; так, как смотрел я на мир все эти годы после Долгушина, я уже не мог смотреть и понимал это, но то новое, что появилось во мне, было беспокойно, и потому я всячески старался подавить, приглушить его в себе. «Какой черт погнал меня в Гольцы! — уже утром, проснувшись и одеваясь, упрекал я себя. — И вообще, вся эта встреча с Евгением Ивановичем? Играют в лейтенанта Федосова... Ну и что? Сам-то он как живет? Спокойно? Как чувствует себя его Зинаида? Ей-то каково? А ну как я, к примеру, начал бы уезжать от Наташи? А Валя? А Ларочка? Нет, нет, это невозможно», — повторял я, надеясь восстановить прежнее спокойствие. Раньше, чем требовалось, я вышел из гостиницы и направился по утренним и малолюдным улицам к зданию заготовительной конторы, где нужно было завершить кое-какие командировочные дела; я специально пошел пешком, и в первые минуты, когда очутился на солнечном тротуаре и в лицо повеяло свежим (по крайней мере, так показалось после устоявшегося запаха старых ковров, обычного, впрочем, запаха всех гостиничных коридоров), еще сырым от ночной прохлады воздухом, тяжесть раздумий будто осталась позади; щурясь и прикрывая глаза ладонью, я некоторое время поглядывал на дома, витрины магазинов, на голубое утреннее небо; но, может быть, потому, что все на свете теряет новизну и я пригляделся и к утреннему солнцу, и к домам, и к прохожим, — воображение постепенно снова перенесло меня во вчерашний день, в председательскую избу и музей, где я долго стоял перед грудою касок, ржавою гусеницей от подбитого «фердинанда» и затем перед стендом с фотографиями погибших зенитчиков, танкистов и автоматчиков. «Да что же, в конце концов, произошло? — между тем спрашивал я себя. — Ну есть Евгений Иванович, живет такой человек, но мне-то что до этого? Я всего один раз видел его и больше никогда не увижу», — рассуждал я, вполне веря в то, что действительно-таки больше никогда не увижу его.
Почти до самого обеда пробыл я у заготовителей, уточняя планы и контрольные цифры, а когда вернулся в гостиницу, — как ни чувствовал себя утомленным (да и времени до отхода поезда было еще много), оставаться в номере, где все напоминает об Евгении Ивановиче, не мог; уложив чемодан и расплатившись, сел в первое подвернувшееся такси и, сказав: «На вокзал», вздохнул с таким облегчением, что шофер внимательно и настороженно посмотрел на меня.
— Да, — подтвердил я, — на вокзал. — И, оглянувшись, еще с минуту провожал глазами удалявшийся подъезд гостиницы.
Возбужденный и довольный, что наконец покидаю Калинковичи, что завтра вечером буду дома, увижу Наташу, Валю, Ларочку, что жизнь опять потечет в своем прежнем, привычном для меня, нерасторопном ритме, я прохаживался по перрону, держа в руке чемодан и приглядываясь к знакомой, сотни раз виденной вокзальной суете. С минуты на минуту должен был прибыть на первый путь скорый из Москвы (на Москву же, которым уезжал я, проходил часом позже); хотя мне никакого дела не было до этого поезда, но, как это бывает, когда хочется, чтобы побыстрее пролетело время, я с удовольствием ожидал, когда зеленые вагоны, медленно проплыв вдоль перрона, остановятся, платформа наполнится спешащими пассажирами, лоточницами с горячими пирожками, проводницами в синих беретах. Когда поезд подошел, я отступил к невысокой железной ограде и, облокотясь на нее, принялся наблюдать, как выходили из вагонов и входили в них люди. Недалеко от меня ссаживали со ступенек вагона на перрон безногого человека. Как и на все вокруг, сначала я лишь мельком и равнодушно посмотрел на него и хлопочущих возле него людей (они устанавливали трехколесную, с ручными педалями коляску), но затем словно что-то подтолкнуло меня посмотреть еще, будто этот безногий и женщина с мальчиком возле него имели какое-то ко мне отношение, и с изумлением вдруг увидел, что в тамбуре с узлами в руках стоит Евгений Иванович. Я сразу узнал его. Он был в том же темном пиджаке, в каком мы спускались с ним в ресторан ужинать, а потом он сидел в кресле и рассказывал мне свою историю; как когда-то, как он говорил, серебрились в свете горевшей под потолком керосиновой лампы серые Ксенины косы, теперь, насквозь пронизанные высокими лучами солнца, серебрились его седые волосы; лицо его было так же серьезно, как и две с лишним недели назад, в день нашей встречи, да и сам он весь, сухощавый, подтянутый, опять, как и тогда, производил впечатление крепкого, занимающегося спортом человека. «Петр Кириллович, Зинаида Григорьевна, сын Саша», — перечислял я, глядя то на безногого человека, которому, очевидно, ехавшие вместе в вагоне люди помогали усаживаться в коляске, то на женщину с мальчиком возле него; я старался рассмотреть и их, но они стояли спиной ко мне и к солнцу, загораживая своими тенями Петра Кирилловича, и я видел лишь общие контуры опрятно одетых и неторопливых в движениях людей. Я взял свой чемодан и с волнением, будто встретил старых и добрых знакомых, которых не видел много и много лет и которых был рад видеть теперь, двинулся навстречу Евгению Ивановичу, издали приветливо помахивая ему рукой.