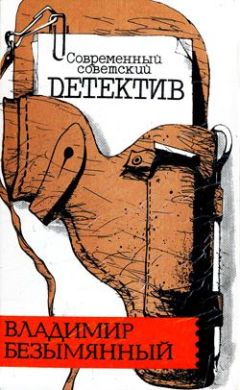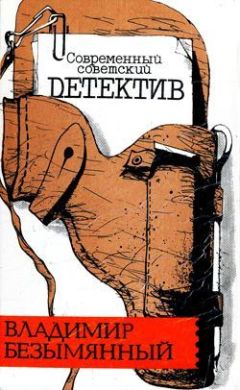Анатолий Ананьев - Версты любви
«Скажите, — говорю, — а что в лесу вы искали?»
«Ничего, — отвечает, — не искал».
«Ну как же, я сам видел».
Тогда он усмехнулся, качнул головой и говорит:
«Прошлое искал».
«Как это прошлое?»
«Войну».
«А разве ее можно искать?»
«Да», — ответил он.
Я смотрю на него, а он ест и опять словно не замечает меня, потом сказал матери спасибо и, гляжу, собирается на сеновал. Я спрашиваю его:
«Вы автоматчиком были? Не ваши друзья там захоронены?»
«Нет, — отвечает, — я служил артиллеристом и как раз на бревенчатом настиле немецкие самоходки подбил».
«А-а, — говорю, — где гусеница размотанная ржавеет в траве».
«Гусеница? — спрашивает. — В самом деле, гусеница?»
«Да, — подтверждаю, — она и сейчас, по-моему, там, у обочины».
«Ты сможешь показать мне ее?»
«Смогу. Она от «фердинанда».
«Завтра сможешь?»
«Смогу, — опять говорю, — там и немецких касок по болоту можно насобирать».
«Касок, — отвечает, — не надо, а если хочешь послушать, какое сражение здесь, возле вашей деревни, было, расскажу».
Мы вышли во двор, он прислонился плечом к лестнице, что на сеновал, и тихо и не спеша начал рассказывать. Он вообще человек как будто неспешный, нерасторопный, но, думаю, это только с виду; такие люди многое успевают в жизни. Рассказывает он, мать подошла, Варька, слушаем. Тихо, лунно на дворе, вечер на редкость теплый. Потому, может быть, я и запомнил этот вечер, и, знаете, именно тогда-то мы — и я, и мать, и Варька (как раз мать и говорила мне потом об этом) — почувствовали, что «солдат» наш, так мы его меж собой окрестили, добрый и душевный человек. Помню, мать до того растрогалась, что на другой день пироги завела, курицу зарубила, а когда Евгений Иванович уехал в город, говорит мне: «Жаль, Варька наша мала, а то вот человек: и одинокий, видать, и молодой, подкормили бы его, и добрый, чего искать еще?» У матери свои планы, а у меня свои были. Утром пошел я с ним к бревенчатому настилу, посмотрели гусеницу, ржавая вся, но точно от «фердинанда», это он подтвердил, несколько касок подобрали, собственно, не касок, а так, подобие, и он снова повторил всю картину боя и показал, где стояли немецкие самоходки, откуда стреляли зенитчики и куда выкатывал он свое орудие. Это было интересно. Он уехал, а я осенью, когда начались в школе занятия, повел ребят к бревенчатому настилу и пересказал им все. Вот с этого и пошло. Создали отряд следопытов, гусеницу приволокли на школьный двор (кстати, она и сейчас лежит в нашем колхозном краеведческом музее), принесли каски, гильзы понаходили, фляжки, даже пуговицы, и за каждым предметом старались восстановить событие. Когда на следующий год Евгений Иванович приехал, я его к ребятам. Я уже тогда преподавал в школе. Ну, можете себе представить, какое осталось впечатление у ребят, когда они послушали Евгения Ивановича да еще вместе с ним сходили на место боя! У нас ведь с тех пор в лейтенанта Федосова играют, и не уймешь; да что я — на ваших же глазах сегодня передок от телеги катали, в пору хоть пушку деревянную строй и дорогу отводи, чтоб машины не подавили... Да, так с этого и началось все. Евгений Иванович назвал ребятам свою батарею, имена и фамилии артиллеристов, которых помнил, а потом дальше — больше, дальше — больше: завели наши следопыты переписку и про зенитчиков узнали, кто был ранен, кто убит, и про танкистов, и про автоматчиков, что захоронены теперь в центре деревни, там и обелиск стоит, и цветы живые (все ухаживают, а когда мимо проходим — шапки долой!), в общем, дальше — больше, и уже — школьная комната мала для музея. Теперь-то, когда я стал председателем, специальную избу отвел им, тут же, возле школы. А сколько, оказывается, партизан было в нашей деревне! Ребята все дотошно раскапывают. Уже материалы гражданской начали собирать и времен коллективизации — кто первым вступил в колхоз и кто был первым председателем? — и, знаете, поразительная картина открывается: в каждой избе, в каждой семье кто-нибудь да совершал подвиг! Но люди не говорили о себе, жили и жили, незаметные, вроде забытые, и вдруг — дела их опять вот на виду, и это преображает человека. Он словно рождается заново. Нет, я считаю, что Евгений Иванович сделал для нас большое дело, хотя и скромничает: «Да что я, да любой на моем месте...» Он каждый год неизменно появлялся в Гольцах, и мы, скажу вам, до того привыкли видеть его, что будто так и надо и ничего другого быть не может. Ради ребят, ради музея приезжает человек, ну и слава богу. И я привык, и радовался, и готовился каждый раз к встрече. Но в последнее время вижу: Евгений Иванович только и весел что лицом, а дума в голове совсем другая. Хотел было потихоньку расспросить, так он: «Нет, нет, что вы, вам показалось» — и никаких жалоб, никаких просьб. Молоко, сеновал, дети — вот и все. Но я-то вижу! — воскликнул Константин Макарович. — Даже когда улыбается, тревога не сходит с его лица. И удивительно, — добавил он, — в таком состоянии, в такой душевной подавленности он еще с ребятишками возился. Он же кумир наших мальчишек, вы понимаете!
— Да, — ответил я.
— Кумир! — возбужденно повторил Константин Макарович. — Это надо заслужить!
Мы просидели допоздна, и когда вышли во двор, солнце уже лежало за крышами соседних изб и синие тени стелились по дороге. Я снова окинул взглядом деревню, которая стала как будто ближе мне за эти несколько часов, пока сидел в председательском доме. Когда шагали к жердевым воротам, я на секунду представил, как появлялся возле этих ворот облитый багрянцем заката Евгений Иванович, и вся его жизнь, рассказанная им самим и дополненная Константином Макаровичем, невольно возникла перед глазами. Мне казалось, что старик, некогда поклонившийся Ксене, и то, что мальчишки, как мы когда-то в Чапая, играли здесь в лейтенанта Федосова, было одним и тем же признанием жизни, и я опять-таки невольно, хотя Евгений Иванович был для меня, в сущности, чужим человеком, радовался за него.
— Вон школа, — сказал Константин Макарович, когда мы уже подошли к машине, — а чуть правее изба, видите? Это и есть наш колхозный краеведческий музей, — не без гордости добавил он. — Я бы охотно сводил вас, это интересно, уверяю, но... жаль, не могу, мы и так запаздываем.
— Он открыт сейчас? — спросил я.
— Вы хотите остаться?
— Да.
— А в Калинковичи?
— На попутной.
— Ну, верно, выйти только на шоссе, а там день и ночь... в общем, смотрите сами, отговаривать не стану.
— Поезжайте, — сказал я.
— Да, скажите, пожалуйста, — уже из машины, грудью навалившись на дверцу и подавшись ко мне, спросил Константин Макарович, — где живут Василий Александрович и Мария Семеновна, о которых вы говорили?
— Не знаю.
— А в какой больнице?
— Василий Александрович? В одной, очевидно, в которой лечат алкоголиков?
— А-а, ну да. Филев его?
— Да. Хотите помочь? Сделаете доброе дело.
— Доброе? — с усмешкой переспросил Константин Макарович. — Добрым оно было бы вовремя, а теперь — я лишь запоздало берусь исправить упущенное.
II
Из Гольцов я уезжал, когда было уже совсем темно. Забравшись в кузов какого-то направлявшегося порожняком в Калинковичи грузовика, я стоял возле кабины, прислонясь к ней спиной, и смотрел на удалявшуюся в ночи с неяркими и редкими огоньками деревню. Редкими потому, что окна многих изб были закрыты ставнями. Я уезжал с таким чувством, словно покидал не Гольцы, а Долгушино, и все было здесь близко и дорого мне; с грустью вглядывался я в темноту, и чем сильнее набирала скорость машина, тем мрачнее и тревожнее становилось на душе. Я не упрекал себя, что не поинтересовался делами колхоза, хотя никогда прежде не случалось, чтобы должностные заботы вот так, вдруг, отходили на второй план; я думал о жизни Евгения Ивановича и о своей, и грустно мне было именно потому, что я все время только лишь стремился к добру, лишь хотел видеть людей добрыми (добрыми по отношению ко мне), тогда как Евгений Иванович делал добро, и делал незаметно, не выдвигая себя, и эта его как будто незаметная и трудная жизнь получила признание («Не только мальчишек, нет! — восклицал я. — А всех, всей деревни!»); я видел, что жизнь Евгения Ивановича была наполнена смыслом, а моя (я насмехался теперь над тем, как бойко и решительно осуждал, в сущности, Евгения Ивановича, когда мысленно рассказывал ему о себе) — пустой, обесцеленной. «А ведь тянуло в Долгушино, — думал я. — И надо было подчиниться чувству, поехать; поехать еще и еще, и... кто знает, какой видимый след остался бы после меня, и ребятишки играли бы, может быть, в агронома Пономарева, как здесь в Гольцах, в лейтенанта Федосова». Я не заметил, как за поворотом, за подступившим к шоссе лесом скрылись последние огоньки утонувших в ночи Гольцов; густой сумрак, лишь впереди рассекаемый лучами фар, окружал мчавшуюся машину, но я не замечал и этого сумрака и не слышал, как скрипели и позвякивали в пазах рассохшиеся борта деревянного кузова трехтонки; под тяжестью наседавших дум — да я и не противился и даже не пытался прервать их (может быть, именно потому, что это было не в моих силах) — так же, как две с лишним недели назад, когда лежал в гостинице рядом с Евгением Ивановичем, весь как бы снова переходил во власть давно пережитых, и как мне казалось, забытых волнений, и в ночной черноте, чем пристальнее вглядывался в нее, тем будто яснее различал захлестанные осенними дождями взгорья с золотою и слезящеюся стерней, те самые убранные и уходящие на покой и зиму хлебные поля, по которым бродил когда-то в жестком брезентовом плаще и сапогах, накинув капюшон на голову, и чувство силы, добра и сознание того, что есть возможность применить эту силу и одарить добротою людей, отбрасывали меня назад, в молодость, когда жизнь только открывала свои казавшиеся приветливыми двери, и я с удивлением и доверчивостью смотрел на мир и людей. То состояние и приятно и тяжело было снова ощущать в себе. Я как будто, как делал, бывало, там, на Долгушинских взгорьях, откидывал капюшон и видел сиротливо приютившуюся за сеткой дождя у реки деревушку, и так же, как эта деревушка выглядела затерявшимся островком среди распаханных черных взгорий, так и я казался себе затерявшимся человечком среди людской нешумной и утонувшей в ночи жизни; она, эта жизнь, была сама по себе, со своими заботами, болью и радостью, будто даже непонятная и недоступная мне, моя же — сама по себе и тоже будто недоступная и непонятная другим, и я чувствовал себя одиноким и подавленным в кузове несшейся сейчас по шоссе на Калинковичи машине. Это тревожное состояние продолжалось и потом, когда я уже лежал в гостинице, завернувшись в одеяло и погасив свет; о чем бы я ни начинал думать, перед глазами неизменно возникали то Долгушино, то Красная До́линка, где на лунном дворе когда-то я встретил старого Моштакова с Кузьмой; и Андрей Николаевич в белой нательной рубашке и кальсонах, как он стоял на крыльце возле остекленной веранды, и Федор Федорович с женою и тремя, как и отец, ушастыми и в одинаковых платьицах дочерьми, и Пелагея Карповна, и маленькая веснушчатая Наташа в косынке, какой я увидел ее тогда, и эта Наташа, какой стала теперь, провожающая своих дочерей Валю и Ларочку по утрам в школу, и серый холмик с крестом, где похоронена Пелагея Карповна (я никогда не был на ее могиле, но хорошо представлял по рассказу жены), и могила ее двоюродной сестры, Надежды Павловны, худенькой, морщинистой, почти высохшей старушонки, — все-все, перемежаясь, возникло и гасло, создавая картину прожитой обесцеленно, как я уже говорил, жизни. Я почувствовал, будто что-то нарушилось во мне, что прежде составляло покой и уверенность; так, как смотрел я на мир все эти годы после Долгушина, я уже не мог смотреть и понимал это, но то новое, что появилось во мне, было беспокойно, и потому я всячески старался подавить, приглушить его в себе. «Какой черт погнал меня в Гольцы! — уже утром, проснувшись и одеваясь, упрекал я себя. — И вообще, вся эта встреча с Евгением Ивановичем? Играют в лейтенанта Федосова... Ну и что? Сам-то он как живет? Спокойно? Как чувствует себя его Зинаида? Ей-то каково? А ну как я, к примеру, начал бы уезжать от Наташи? А Валя? А Ларочка? Нет, нет, это невозможно», — повторял я, надеясь восстановить прежнее спокойствие. Раньше, чем требовалось, я вышел из гостиницы и направился по утренним и малолюдным улицам к зданию заготовительной конторы, где нужно было завершить кое-какие командировочные дела; я специально пошел пешком, и в первые минуты, когда очутился на солнечном тротуаре и в лицо повеяло свежим (по крайней мере, так показалось после устоявшегося запаха старых ковров, обычного, впрочем, запаха всех гостиничных коридоров), еще сырым от ночной прохлады воздухом, тяжесть раздумий будто осталась позади; щурясь и прикрывая глаза ладонью, я некоторое время поглядывал на дома, витрины магазинов, на голубое утреннее небо; но, может быть, потому, что все на свете теряет новизну и я пригляделся и к утреннему солнцу, и к домам, и к прохожим, — воображение постепенно снова перенесло меня во вчерашний день, в председательскую избу и музей, где я долго стоял перед грудою касок, ржавою гусеницей от подбитого «фердинанда» и затем перед стендом с фотографиями погибших зенитчиков, танкистов и автоматчиков. «Да что же, в конце концов, произошло? — между тем спрашивал я себя. — Ну есть Евгений Иванович, живет такой человек, но мне-то что до этого? Я всего один раз видел его и больше никогда не увижу», — рассуждал я, вполне веря в то, что действительно-таки больше никогда не увижу его.