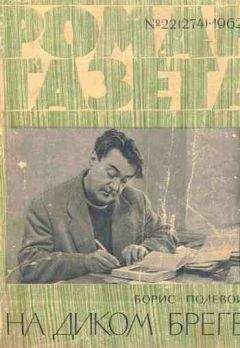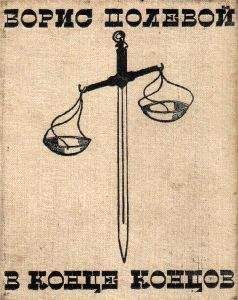Борис Полевой - На диком бреге (С иллюстрациями)
— Ну пошли, пошли, — заторопился вдруг Литвинов. — Глафире не до тетеревов, все нам останутся...
Они шли уже осторожно, останавливаясь и осматриваясь перед каждой прогалиной. Карта говорила: рябинник где-то тут, рядом. Вдруг Литвинов остановился. Пальцем поманил Надточиева. Тот, подойдя на цыпочках, подставил ему ухо, полагая, что Старик заметил дичь.
— ...Знаешь, как назовем мы наш город-сателлит, что на Птюшкином болоте? — неожиданно спросил начальник строительства. — Партизанск. Да, да, Партизанск, вот в их честь. — И он показал пальцем назад, туда, откуда они только что пришли.
Тут он смолк, и они замерли, услышав странные хрипловатые звуки. Они доносились из недалеких, тускло рдевших кустов. Рябинник? Ну да, вон среди ржавой листвы будто брызги крови. И что-то неясно чернеет в ветвях. Вцепившись в ружья и обо всем позабыв, охотники ловили звуки, доносившиеся из-за кустов. Ага, вон и ветки шевелятся! Кто-то копошится в них. Литвинов сделал руками охватывающий жест: надо разойтись и подходить справа и слева против ветра.
Ветер бросал в лицо Надточиеву горьковатый аромат палого листа. На цыпочках двигался он от куста к кусту, держа ружье наготове, не спуская глаз с шевелящихся веток. Уже отчетливо различались в ржавчине листьев силуэты крупных, тяжелых птиц. Не замечая опасности, они жадно склевывали гроздья тронутой морозом рябины. Тут грянул выстрел, затем другой... Несколько птиц, что сидели повыше, снялись и, свистя крыльями, полетели прямо на Надточиева. Одну из них он подстрелил на взлете, другую подбил из второго ствола, когда она проносилась у него над самой головой. Птицы с шумом упали невдалеке. И тут инженер услышал яростный вскрик и брань.
В кустах, красный от досады, стоял Литвинов. Он явно не видел птиц, которые затаились в чаще ветвей. Приложив палец к губам, Надточиев указал ему на них. Литвинов насторожился. Весь напружинившись, он стал тихо подкрадываться, но наступил на ветку. Раздался треск. Еще одна птица, шумно хлопая крыльями, ломая ветви, стала выбираться из зарослей. Снова раскатились по лесу выстрелы. Дробь секанула по листве где-то над самой головой Надточиева.
— Ух... — послышался густой мат. Литвинов стоял весь красный и, проводив бешеным взглядом улетавших птиц, перевел его на удачливого товарища — Я тебе их на мушку посадил. Моя птица! — кричал он.
А в это время еще один, самый осторожный и самый хитрый петух, бесшумно выбравшись из листвы, полетел, почти задевая вершины рябин. Оба ружья вскинулись одновременно. Оба охотника нажали курки, но грянул лишь один выстрел. Дым рванул из ружья Надточиева: в огорчении Литвинов забыл зарядить свою знаменитую двустволку. А его партнеру, как на грех, продолжало везти. Еще одна птица, самая крупная, самая тяжелая, билась на земле. Стараясь не глядеть в искаженное яростью лицо Литвинова, инженер добил ее. Шум, раздавшийся в рябиннике, все-таки погасил бешенство неудачливого охотника. Вскинув ружье, он метнулся навстречу новой птице. Он выстрелил из обоих стволов, посыпались перья, и бесформенный комок стал падать, кувыркаясь в ветвях.
— Ага! Наконец-то! — вскричал Литвинов, ломясь к добыче прямо через кусты.
— С полем! — радостно поздравил его Надточиев, Стиравший травою с рук птичью кровь.
И в ответ — новый залп ругательств. В ярости Литвинов бросил оземь ружье и топтал его.
— Федор Григорьевич, вы ж ее мастерски срезали...
— К черту, убирайся ты к черту в штаны! — не помня себя кричал Литвинов. — ...И не таскайся за мной! Хватит! Видеть не могу твою рожу!
Приготовившись достойно ответить на обиду, Надточиев случайно взглянул на землю, где лежал трофей его спутника: ком перьев, изрешеченный дробью. Это были пестрые перья сибирской совы. Литвинов, не оглядываясь, уходил в чащу в обратном направлении. Еще слышался треск кустов. Надточиев собрал свои трофеи. Это были две молоденькие курочки и великолепный тяжелый петух. Связав их за шеи, охотник перекинул дичь через плечо и пошел обратно, стараясь держаться следов Литвинова. Тот шел так быстро, что догнать его не удалось. Комок совиных перьев, оставшийся лежать на траве, невольно настраивал инженера на веселый лад. И все же мысли вертелись вокруг одинокой могилы в лесной котловине и этой женщины, похожей на монашку. Он думал о ее верности, о ее любви, о женской любви вообще и главным образом о том, почему его, Надточиева, никто не любил, пусть не так фанатически, а хотя бы нормально, хотя бы немножко...
На пасеку охотники вернулись порознь. Савватей, которому не раз приходилось полевать с Литвиновым, сразу сообразил, в чем дело. К приходу Надточиева они уже пили чай и подшучивали над Петровичем, который с юмором повествовал о перипетиях своей семейной жизни. Всю эту картину Надточиев увидел еще в окно. Оставив битую птицу в сенях, он медленно открыл дверь. Он был не из тех, кто молча сносит обиды, и уже приготовился к бою, но Литвинов шел ему навстречу, протянув руку:
— ...Ну, прости меня, Сакко: поганый характер. Как говорит Петрович, с пол-оборота завожусь... Не сердишься? Ну и ладно. — И потихоньку попросил: — Про эту окаянную совенку — ни гу-гу.
— Трофеи пополам, — с облегчением сказал Надточиев. — Ведь это же чистая случайность, что ваша птица летела на меня.
— Ну какая тут случайность... Меня за такую стрельбу в станционном сортире утопить мало. Думаешь, я дурак? — И, вырвав из трубки, лежавшей на лавке, лист ватмана, развернул его. — Нет, ты лучше погляди, Сакко, что тут Иннокентий строит. Вот оно, его Ново-Кряжово, в плане, а вот перспективный эскиз. Гляди — площадь, универмаг, поликлиника, школа, дом для учителей, а там, возле Ясной, за стадионом, пристань. Морская пристань! А рядом, смотри, склады. Ледяные склады. Рыбу, убоину, овощи оттуда прямо к нам морем возить будут... Морем! Таежное море, черт возьми!.. А Иннокентий-то, Иннокентий-то не успел на новом месте обжиться и вон уж куда засматривает. И ты смотри, кто ему это все делает! Москва... А между прочим, деду вон не нравится. Так, Мокеич?
— Да-от как сказать? Конешно, ничего, однако ж нашим ли носом да малину клевать. Она ягода нежная... Городское жилье, оно конешно... Устарел я, может, а жаль мне от приволья отказываться... Тут как-то сижу на завалинке, в субботу, что ли, идут парни с девками. По виду ваши, торбы у них за плечами на ремнях, ведерки, снасть, даже цыганский чугун двое на палке тащат. Идут, значит, тайгой подышать. У одного за плечами приемник, поменьше даже моего. Орет на весь лес... Мне-от жалко их стало. В тайгу — и с радио... Ее ж саму слушать надо. Сколько у нее голосов, сколько песен! А они... Плохо это, Григорич... Иль ты тоже с собой радио по тайге таскаешь?
Старик сидел сутулый, нахохлившийся. Он все еще походил на беркута, но беркута, вымокшего под дождем. Он будто бы и не беседовал, а так, думал вслух, разглядывая какие-то свои мысли. Только раз за весь день в погасших глазах засветился прежний блеск. Это когда он спросил, видели ли охотники партизанскую могилу.
— Видели, — ответил Литвинов, тоже оживляясь. — Слыхал я о твоем старшем. Знаешь, что мы тут с Сакко надумали? Вот посоветовать жителям, чтобы просили правительство назвать новый городок Партизанском. И в том городе площади имя дать — площадь Сибирских партизан. А? И в городе этом сыну твоему и товарищам его спать на самом почетном месте.
— Эх-хе-хе! — совсем по-стариковски сказал Савватей. — Ладно надумано, только ведь и праха, поди, не осталось. Лет-от уж сколько прошло над той могилой...
— Мы Глафиру Потаповну там видели, — сказал Надточиев.
— Видели? — уже снова потухшим голосом переспросил старик. — Это так, она там. Каждое воскресенье там, могилку приберет, сидит, думает... Вот вы перенесете, похороните с честью, а она куда? У нее не только любовь, но и вся жизнь там закопана.
Когда охотники уходили, старик даже не поднялся их проводить. Сидя на лавке, он подавал им безжизненную, вялую руку:
— Наверно, не свидимся, Григория, так не забудь про могилку-та.
— Я и о тебе не забуду, Савватей Мокеич. Я тебе такого врача пришлю, плясать еще будешь. Знаешь — кого?
— Знаю, знаю я твово врача... Внучка навещает, все ваши секреты знаю. Только и тот врач без пользы. Савватею Седых на тот свет уже путевка выписана. Чую. — Но вдруг опять что-то сверкнуло в его глазах. — Ты лучше, Григория, нашего Дюжева не забывай, вот кому врач нужен. Взялся поднять человека — поддерживай. Дело без конца как кобыла без хвоста.
Помолчал, будто тихо удалялся куда-то, и про себя бормотал:
— Полюбился мне этот Дюжев... Приехал тогда с Кешей. Я — матушки-светы, живой мой Александр! До того на старшего моего похож и обликом и характером. Только мой говорун, а этот молчальник. Все молчал... А потом отогрелся, заговорил. Оно известно, в лесу человек лесеет, а на людях людеет... Прям очень, спина-то совсем не гнется, скорее его пополам сломишь, чем согнешь. Ты его береги: большой прок от него людям будет. А пьет, что ж, не для услады, в неволе-та вон и медведь запляшет. Александр-покойник, тот хмельного не принимал, даже чая не пил, даром что ярым большевиком считали, а этот... — И повторил: — В неволе и медведь пляшет.